Охранник сказал мне: «Мы тебя расстреляем»: жизнь в донецкой тюрьме | Российско-украинская война Новости
Наталье Зелениной, родом из Донецка в Украине, было 35 лет, когда она перестала употреблять тяжелые наркотики и начала опиоидную заместительную терапию (ОЗТ).
Затем она стала социальным работником и целыми днями помогала тем, кто хотел бросить уличные наркотики.
В 2017 году, когда она путешествовала по восточной Украине по работе, ее остановили на границе с Донецком пророссийские сепаратисты, захватившие регион тремя годами ранее.
Так называемая Донецкая Народная Республика (ДНР) во всем мире признана территорией Украины, но ею управляют прокремлевские повстанцы с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и поддержала сепаратистов в Донецке и соседней Луганской области.
Ополченцы обвинили Зеленину в торговле наркотиками, и после суда, который, по ее словам, был фиктивным, ее приговорили к 11 годам лишения свободы.
Когда 24 февраля прошлого года Россия вторглась в Украину, Зеленина опасалась, что ее шансы на помилование сведены к нулю.
Но 17 октября уроженка Донецка оказалась в числе 108 женщин, освобожденных из российского плена в результате обмена пленными.
Поскольку война продолжается уже 12 месяцев, Зеленина вернулась к социальной работе в Краматорске, контролируемом Украиной городе на севере Донецка.
108 украинских женщин были освобождены 17 октября в результате обмена заключенными с Россией, в том числе Наталья Зеленина [Файл: Пресс-служба Президента Украины/АФП]Это ее история, рассказанная Аль-Джазире: тяжелые наркотики, опиоиды. Когда я начал опиоидную заместительную терапию, ОЗТ, в 2006 году, моя жизнь полностью изменилась. Я отказался получать какие-либо уличные наркотики.
Стала социальным работником в Донецке. Имея собственный опыт, я мог бы помочь другим. Я мог бы показать, что можно бросить употреблять уличные наркотики и что ВИЧ — это не смертный приговор.
Когда началась война [в 2014 году], я боялась, что нас арестуют и отнимут все наши лекарства, потому что в России нет программ ОЗТ.
На карту было поставлено многое. Мы видели прогресс людей на ОЗТ, поэтому не могли просто сказать, что боимся, и прекратить работу.
В 2015 году ДНР начала отслеживать организации снижения вреда. Они угрожали нам. Нам пришлось закрыть этот офис и переехать.
Затем, 4 ноября 2017 года, я проезжал блокпост в Оленевке, направляясь в Донецк. Я вез прописанный бупренорфин для себя и еще одного пациента. Мне сказали, что я провожу запрещенные вещества.
Меня три дня допрашивали в Донецком отделении милиции, и они [самозваные власти ДНР] забрали все мои лекарства. Вскоре я почувствовал себя очень, очень плохо из-за отмены. Это было действительно больно.
Я не мог контролировать свои мысли. Я упал и в какой-то момент потерял сознание. Они не кормили меня, и самое большее, что они делали, это давали мне немного воды.
Сначала от меня хотели подписать бумагу о том, что я купил наркотики нелегально и пытался продать их в Донецке, но я отказался.
Поэтому мне запретили видеться с мамой и племянником. Они сказали, что я должен признаться, иначе я попаду в тюрьму на 25 лет.
Они сказали, что я должен признаться, иначе я попаду в тюрьму на 25 лет.
Но я не могу признаться в том, чего не делал. Я действовал в рамках украинского законодательства, поэтому все было законно.
Привели мальчика-наркомана и избили его у меня на глазах. Сказали, что со мной будет то же самое, если я не подпишу документы.
Через три дня меня поместили в изолятор временного содержания. К тому времени я понял, что это серьезно. Они не собирались просто отпускать меня. Я чувствовал, что не хватает воздуха. Когда меня привезли в этот изолятор, я просто не мог дышать.
На третий день в СИЗО мне предъявили обвинение в торговле наркотиками. Честного суда я и не ждал.
Когда ты в тюрьме, ты воспринимаешь вещи совсем по-другому, поэтому у меня была очень сильная депрессия. Я не мог уснуть. Могло быть гораздо хуже.
В тюрьме я видел людей, которые теряли сознание или чувствовали себя очень плохо из-за того, что не получали надлежащего лечения. И я не получал ОЗТ или антиретровирусную терапию [АРТ].
Моя АРТ была прервана на три месяца. В тюрьме от меня хотели подписать документ, что я отказываюсь от терапии, но я не стал подписывать. Через три месяца помогла мама. Она пошла к моему врачу и убедилась, что я могу получить доступ к лекарствам.
Самой большой проблемой была депрессия. Я чувствовал себя очень подавленным, очень слабым. Я просто хотел лежать на кровати весь день и ничего не делать. Я очень не хотел есть. Иногда я пил кофе. Я как раз ждал вечера, когда позвоню маме и племяннику, чтобы услышать их голоса.
Звонки официально не разрешались, но если ты знал людей и имел деньги на взятки, то можно было купить телефон и спрятать его.
В камере у нас был один телефон на шестерых. Девочки прятали его в местах, где охранники его не найдут, например, в полу. Они вырыли яму, а затем засыпали ее.
Ко мне как к несепаратисту относились иначе.
Ко мне были применены дополнительные меры безопасности, и даже в камере, когда я говорил о своих взглядах, мне приходилось соблюдать осторожность.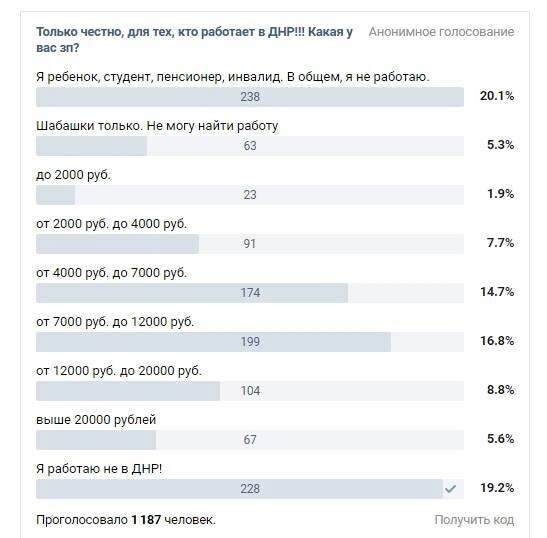
Например, однажды я сказал, что блокпост не является настоящей границей настоящей страны.
Другие говорили мне: «Просто заткнись, а то получишь более серьезное обвинение». Слухи о моих взглядах распространились, и полицейские приказали моему адвокату заставить меня молчать.
Еда была плохой: каши, макароны и жидкие постные супы. Вы не могли съесть то, что вам дали. Это было просто невозможно, поэтому мы в основном ели то, что нам приносили члены семьи. Я потерял 7 кг [15 фунтов] из-за стресса.
У меня сложилось впечатление, что суд был формальностью.
На протяжении всего процесса прокурор просто смотрела в свой телефон. Казалось, что они знали свое решение с самого начала. Первое судебное заседание состоялось в марте, через четыре месяца после моего ареста. В общей сложности я провел в ожидании приговора два года и семь месяцев.
В день вынесения приговора я знал, что они уже решили, что я виновен. Накануне ночь была кошмаром, предвкушением окончательного решения. Объявили, что я получил 11 лет.
Объявили, что я получил 11 лет.
Я просто не мог этого понять. Даже убийцы получают меньше.
После вынесения приговора меня увезли в исправительную колонию.
Официально трудовой колонии не было, но работать приходилось целыми днями, независимо от погоды, даже когда шел дождь или снег. Работа заключалась в основном в содержании колонии: все убрать, покрасить, навести порядок, сделать ремонт и тому подобное.
Раз в неделю у нас была так называемая баня.
Душа не было, но была зона с горячей и холодной водой, и мы могли либо помыться с помощью этих больших сосудов, либо заняться стиркой. Стиральных машин не было. Нам приходилось стирать белье руками.
Было угольное отопление, которое было нормально, когда отопление работало, но иногда оборудование ломалось. Тогда было холодно, и нам приходилось надевать самую теплую одежду и пальто для сна.
Нам все время напоминали, что мы заключенные. Были словесные оскорбления, плохие слова, используемые для унижения людей.
Я надеялся, что меня обменяют до того, как произойдет полномасштабное вторжение. Потом, после вторжения, я подумал: «Сейчас война, и у людей есть заботы поважнее, чем обменяться с нами», и потерял надежду.
Так что обмен был для меня очень неожиданным и радостным.
Меня вызвал начальник исправительной колонии и сказал, что меня помиловали, что мне показалось странным, потому что я ничего не подписывал. Около 9 вечера меня привезли в другую тюрьму. Мне на голову надели мешок.
Я спросил: «В ДНР так прощают?»
Охранник сказал: «Заткнись, или мы тебя здесь расстреляем».
А я ответил: «Если это шутка, то не смешная».
Потом меня взяли за руку и повели в какое-то подземное помещение. Но я понял, что раз они не хотят, чтобы я что-то видел, то это должен быть обмен, и я был счастлив и готов пройти через все, чтобы вернуться на родину.
На следующий день нам надели на головы разные пакеты и клей, чтобы ничего не было видно, и связали руки скотчем. Так мы и остались в автобусе и самолете.
Так мы и остались в автобусе и самолете.
Теперь я снова работаю в сфере снижения вреда. Большое спасибо моим коллегам и правительству Украины.
То, что меня там не оставили, говорит о том, что они заботятся обо всех жителях Украины, в том числе о клиентах программы ОЗТ и людях, живущих с ВИЧ.
Мы все важны.
Украинские художницы выбирают свой путь во время войны
Художнице Дане Кавелиной, уроженке ныне оккупированного Мелитополя, не нужно было ждать и смотреть, что будет с Украиной, когда российские войска перейдут границу в феврале 2022 года Она видела, что произошло в 2014 году, когда пророссийские сепаратисты объявили о своей «независимости» в Луганске и Донецке. Женщины снова будут подвергаться жестокому обращению, а изнасилование будет использоваться как оружие, предназначенное для уничтожения их человечности. Кавелина уже участвовала в долгосрочном проекте под названием «Мать Сребреница, Мать Донбасс», объединяя зарисовки, интервью, линейные повествования и видео, чтобы сплести историю женского военного опыта на Донбассе, в Боснии и Герцеговине и в других местах.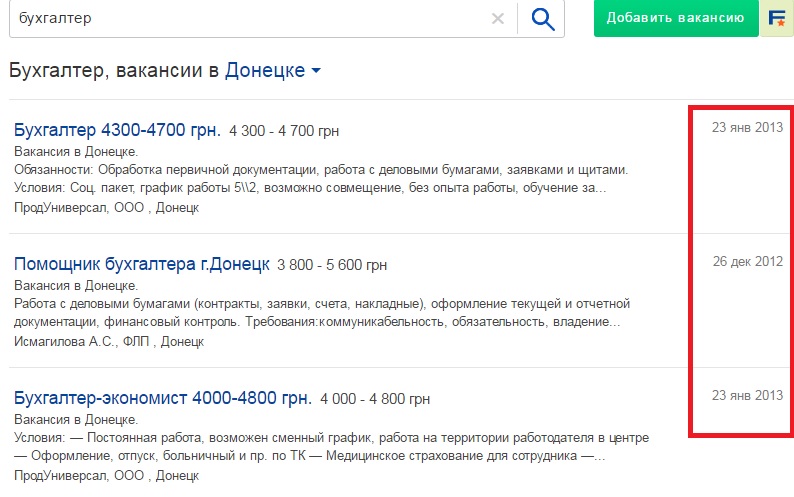 Она понимала, что «всякая война — это война против женщин» в плане дегуманизации и террора.
Она понимала, что «всякая война — это война против женщин» в плане дегуманизации и террора.
Необходимость восстановить свободу действий перед лицом ужасающей жестокости становится центральной темой мощной новой художественной выставки «
Фабижанская первоначально организовала выставку в галерее Фридмана в Нью-Йорке в сотрудничестве с киевской галереей Волошин (в настоящее время работает в Майами) летом 2022 года. После остановки в Уэслианском университете в Коннектикуте выставка переместилась в Стэнфорд в Вашингтоне, округ Колумбия, в Вашингтонскую художественную галерею. в январе, где он перейдет в март. Решение привезти выставку в Вашингтон дает политикам возможность испытать на себе мощь украинского искусства военного времени, энергию, испытанную на Украине много раз, как показано в других постах этой серии.
Каждый из художников серии «Женщины на войне » добился впечатляющих творческих успехов в Украине и за рубежом, и каждый из них был взращен независимой Украиной, которой сейчас угрожает возвращение патриархального авторитаризма в случае победы России.
Сила выставки начинается с исследования художниками гендерных ролей и гендерного разделения во время войны. Их статьи также проливают свет на исторический контекст Донбасса, в частности.
Для женщин Донбасса кризис, вызванный потерей дома и семьи, как личной, так и общественной, восходит к 2014 году. Для более ранних художниц, таких как Алла Горская (1929–1970), история восходит к движению художников-диссидентов в 1960-х (и даже раньше).
