Тематика прав человека для старших классов начальной школы и младших и старших классов средней школы — Азбука преподавания прав человека в школе
Глава III
Тематика прав человека для старших классов начальной школы и младших и старших классов средней школы
Правительство и законность
Права человека — это неотъемлемые права каждого человеческого существа. Мы можем предъявлять моральные требования независимо от того, установлены ли они законом. Например, все люди имеют право на жизнь независимо от того, принят или нет закон, подтверждающий это право.
Однако юридическую силу моральным требованиям придают законы. Что касается стран, где эти права закреплены в законах, нам все же нужно знать, полностью ли эти законы претворяются в жизнь. И все же важный первый шаг — это преобразование моральных требований в законные права.
Законы могут также оказывать важное воспитательное воздействие.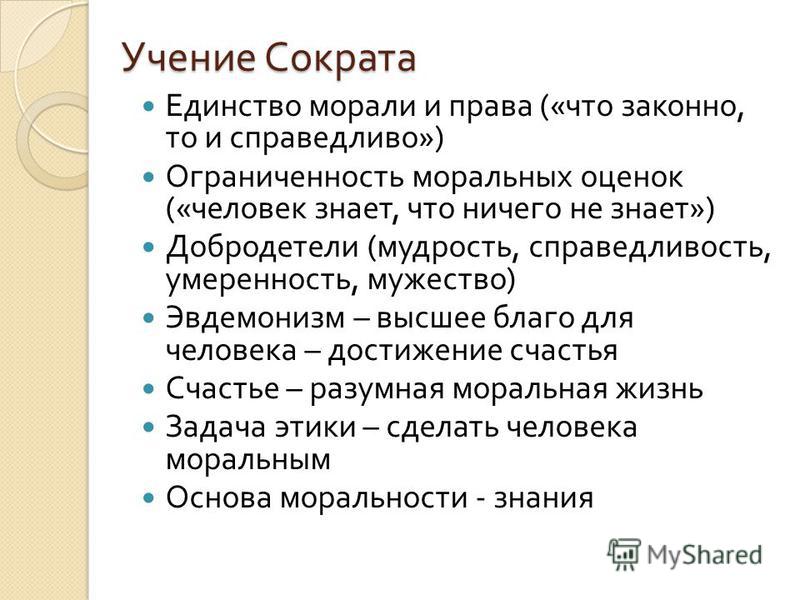 Они определяют то, что, по официальному мнению общества, является правильным, и дают конкретное выражение нормам, которые, как считает общество, должны соблюдаться. Они существуют для всех и стоят — по крайней мере в принципе — выше руководителей и руководимых.
Они определяют то, что, по официальному мнению общества, является правильным, и дают конкретное выражение нормам, которые, как считает общество, должны соблюдаться. Они существуют для всех и стоят — по крайней мере в принципе — выше руководителей и руководимых.
a) Советы и суды
Законы принимаются национальными законодательными органами. Учащимся необходимо уяснить для себя законотворческий процесс, для того чтобы ответить на следующие вопросы:
- Что такое «закон»?
- Кто его принимает? и
- Почему?
Организуйте посещение классом региональной или центральной палаты парламента страны во время его сессии, для того чтобы учащиеся могли понаблюдать за работой его членов. Обсудите три указанных выше вопроса. Точно так же организуйте посещение суда, для того чтобы узнать не только, как применяются законы, но также и то, как выносятся решения, устанавливающие судебные прецеденты, которые прямо или косвенно могут влиять на будущие решения.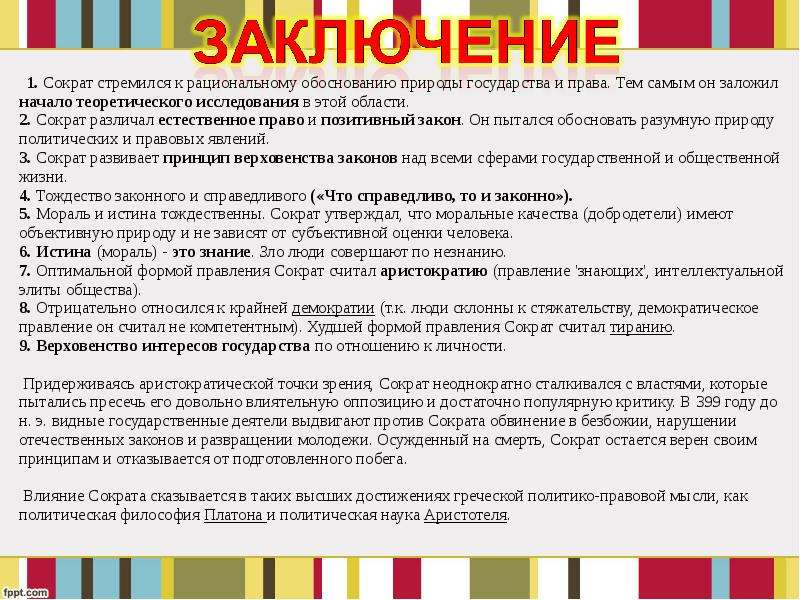
Если предложенные посещения не представляются возможными или даже если такая возможность имеется, организуйте в классе модель парламента и проведите прения по текущим проблемам или инсценируйте судебное разбирательство для вынесения решения по какому-либо делу — местному или общенациональному. Поощряйте учащихся к тому, чтобы они сами искали подходящие примеры.
Для того чтобы привнести в работу международный аспект, преподаватели могут предлагать классу исследовать процесс принятия решений в Организации Объединенных Наций, а также рассмотреть проблемы, которые там обсуждаются в данный момент. Они могут также изучить некоторые дела, находящиеся на рассмотрении международных комиссий, трибуналов и судов. (См. раздел ниже «Международный уголовный суд».)
Вы также можете пригласить кого-либо из местных политических деятелей выступить перед классом по трем вопросам, о которых говорилось в начале данного раздела, а также еще по трем другим:
- Почему законы соблюдают?
- Как осуществляется правосудие? и
- Как достигается «справедливость» в правительстве и в праве?
Рассмотрите статью 12 Конвенции о правах ребенка, которая наделяет детей правом выражать взгляды по всем вопросам, затрагивающим их. Признается ли это право в судах вашей страны? Как?
Признается ли это право в судах вашей страны? Как?
Обсудите следующие вопросы:
- Предоставляется ли женщинам равный статус перед законом?
- Много ли в вашей стране женщин-юристов? Магистратов? Судей? Законодателей в местных и национальных законодательных органах?
- Каким образом эти количественные показатели влияют на правовой статус женщин? (См. разделы ниже «Равенство перед законом» и «Принятие решений»).
(Статьи 7, 8, 10, 12, 21, 40 ВДПЧ; статьи 12, 40 КПР)
b) Виды судов
Процесс судопроизводства может быть также изучен путем организации в классе неформального суда. «Стороны в споре» могут быть помещены в середине, их «друзья» и «семьи» — рядом с ними, а остальные учащиеся класса размещаются вокруг них, представляя собой «поселок». Назначьте «судьей» кого-либо, находящегося за пределами этого круга, к кому будут обращаться только тогда, когда местные жители захотят услышать мнение постороннего человека.
Тема может быть выбрана преподавателем с помощью учащихся. Затем обсудите, как здесь действовал «закон» — и в официальном, и в неофициальном случаях. Отметьте, что иногда бывает невозможно найти виновного, особенно когда каждая сторона выдвигает разумные доводы. (Статьи 8, 10 ВДПЧ; статьи 3, 12 КПР)
с) Равенство перед законом
Статья 7 Всеобщей декларации начинается со слов: «Все люди равны перед законом …». Однако это принципиальное положение не всегда отражает то, что действительно происходит на практике.
Обсудите следующие вопросы:
- Все ли в вашей общине равны перед законом или есть люди, с которыми обращаются по-иному?
- Какие факторы могут давать некоторым людям какое-либо преимущество перед другими?
- Почему равенство перед законом имеет важнейшее значение для культуры прав человека?
(Статья 7 ВДПЧ; статья 2 КПР)
d) Сравнение «правовых» документов
9Отметьте, что права гарантируются не только международными документами, такими, как Всеобщая декларация (ВДПЧ), но и региональными, национальными и местными сводами законов, например национальными конституциями.
- Право на образование
- Свобода выражения мнений (включая средства массовой информации)
- Свобода выбора супруга
- Равенство всех лиц, в том числе женщин и национальных меньшинств
- Свобода выбора количества детей
- Свобода от пыток и бесчеловечного обращения
- Свобода мысли, совести и вероисповедания
- Право на владение собственностью
- Право на хранение огнестрельного оружия
- Достойное питание
- Достойное жилище
- Достойное здравоохранение
- Право на свободное передвижение внутри и за пределами страны
- Право на мирные собрания
- Право на чистый воздух и воду
Обсудите следующие вопросы:
- Какие сходства и различия вы обнаружили? Как вы можете объяснить их?
- Содержит ли ваша конституция или местное законодательство больше или меньше прав, чем ВДПЧ?
- Кажется ли вам, что авторы этих документов руководствовались аналогичным понятием того, что означают «права»?
- Все ли документы предусматривают обязанности и права?
- Имеют ли граждане вашей страны какие-либо права, помимо тех, которые включены в вашу Конституцию или местное законодательство?
- Что происходит в случае коллизии этих законов?
- Какими должны быть пределы ответственности и обязанности правительств по предоставлению своим гражданам определенных прав? Например, относится ли голод или бездомность к сфере ответственности правительства?
- Должны ли какие-либо из перечисленных прав гарантироваться всеми правительствами?
(Все статьи ВДПЧ)
е) Международный уголовный суд
На международных военных трибуналах в 1945-46 годах в Нюрнберге и Токио одержавшие победу союзники судили официальных лиц Германии и Японии за «преступления против мира», «военные преступления» и «преступления против человечности», совершенные во время второй мировой войны.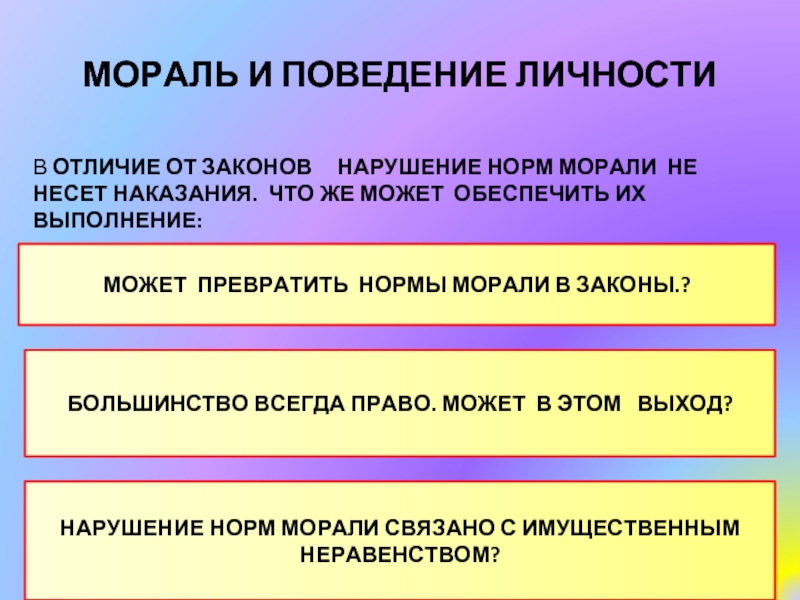
С тех пор такие преступления и массовые нарушения прав человека совершались в ходе других вооруженных конфликтов. В Камбодже красные кхмеры в период 1970-х годов уничтожили около 2 миллионов человек. Тысячи гражданских лиц, в том числе огромное количество безоружных женщин и детей, погибли во время вооруженных конфликтов в Мозамбике, Либерии, Сальвадоре и других странах. Однако международное соглашение об учреждении международных судов для рассмотрения этих зверских преступлений не было достигнуто до 1990-х годов, когда в бывшей Югославии разразился конфликт и военные преступления, преступления против человечности и геноцид — под маской «этнической чистки» — опять не привлекли международное внимание. В 1993 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций учредил специальный Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии для судебного преследования и наказания лиц за такие систематические и массовые правонарушения прав человека. Аналогичным образом, после завершения гражданской войны, свирепствовавшей в Руанде с апреля по июль 1994 года, в ходе которой было истреблено около 1 миллиона безоружных гражданских лиц, Совет Безопасности учредил Международный уголовный трибунал для Руанды.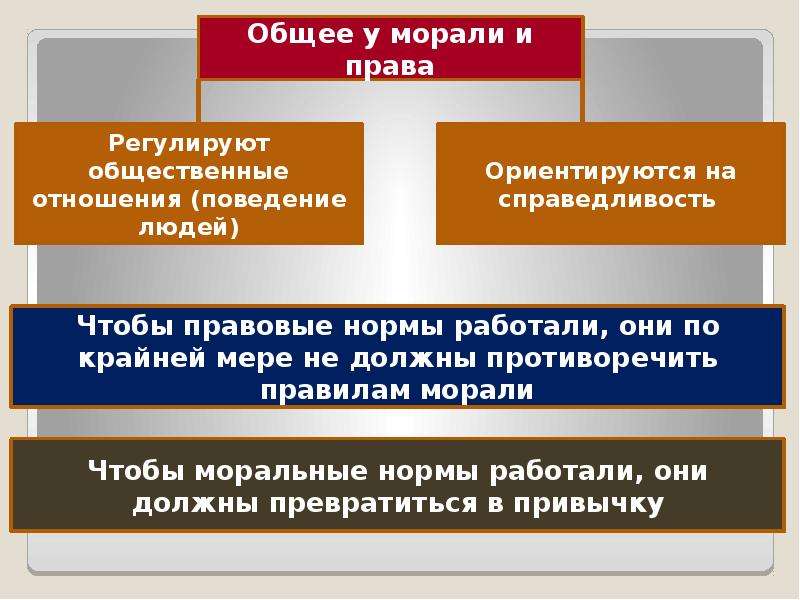
История показывает, что без правоприменительного механизма любого международного уголовного суда, который занимался бы вопросами индивидуальной ответственности, акты геноцида и вопиющие нарушения прав человека нередко остаются безнаказанными. Такой суд может служить дополнительным средством, обеспечивающим привлечение к уголовной ответственности лиц за совершение ими актов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, когда страна, в которой такие преступления были совершены, не может или не хочет возбуждать уголовное преследование. В то же время наличие такого института может служить сдерживающим фактором, препятствующим совершению в будущем таких преступлений по международному праву. Исходя из этого в 1998 году представители правительств встретились на дипломатической конференции в Риме для выработки статута постоянного международного уголовного суда. 17 июля 1998 года был принят Статут Международного уголовного суда: 120 правительств проголосовали за, 7 — против и 21 — воздержалось. Статут вступил в силу в июле 2002 года после того, как его ратифицировали, по меньшей мере, 60 государств, в результате чего в Гааге (Нидерланды) был, таким образом, учрежден Международный уголовный суд.
Статут вступил в силу в июле 2002 года после того, как его ратифицировали, по меньшей мере, 60 государств, в результате чего в Гааге (Нидерланды) был, таким образом, учрежден Международный уголовный суд.
Создание Международного уголовного суда затрагивает ряд важных вопросов и дает учащимся возможность для проведения исследований и осуществления практической деятельности:
- Зачем нужен такой Суд? Может ли он быть эффективным?
- На каком основании международное сообщество может вмешиваться во внутренние дела страны таким же образом, каким правительство обращается со своими собственными гражданами? Является ли такое вмешательство внутренним делом? (Можно предложить классу подробнее обсудить, имеет ли международный орган право и в каких случаях вмешиваться во внутренние дела страны.)
- Узнать подробнее о Международном уголовном суде (например, о его правилах процедуры, категории дел, с которыми он имеет дело и т.
 д., посетив официальный веб-сайт Суда www.icc-cpi.int). Каковы будут обязательства каждого правительства сотрудничать с Международным уголовным судом?
д., посетив официальный веб-сайт Суда www.icc-cpi.int). Каковы будут обязательства каждого правительства сотрудничать с Международным уголовным судом? - Для учреждения Международного уголовного суда потребовалась ратификация его Статута по меньшей мере 60 странами. Выясните, какие страны до настоящего времени ратифицировали его. Если ваша собственная страна еще не ратифицировала его, организуйте прения за и против ратификации. Направьте письма или петиции законодателям вашей страны с изложением вашей позиции (позиций) в отношении ратификации.
- Найдите в мировой истории примеры ситуаций, которые могли бы быть представлены на рассмотрение Международного уголовного суда, если бы такой суд существовал в то время.
(Статьи 7, 10, 11, 28 ВДПЧ; статьи 3, 40, 41 КПР)
9 Заимствовано из Teaching Human Rights by David Shiman (Center for Teaching International Relations Publications, University of Denver, 1998).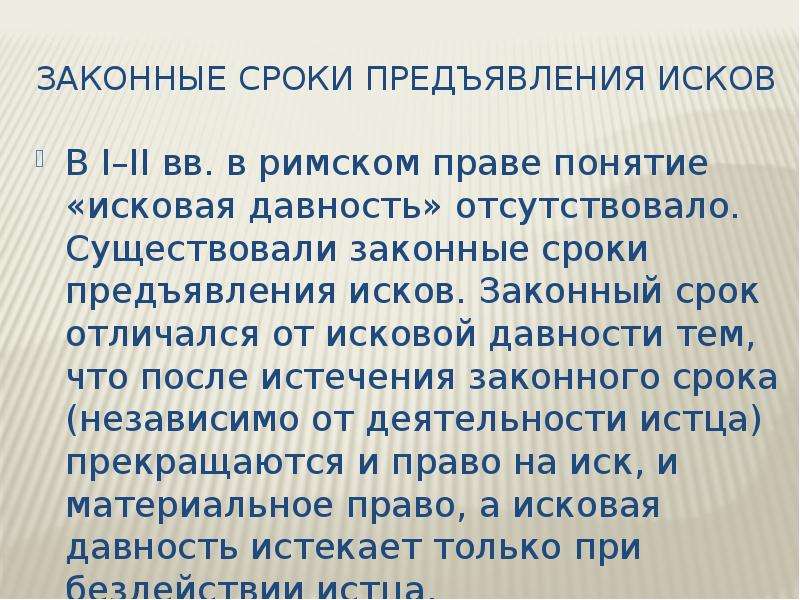
Путин: жестких ограничений за нарушение моральных норм в интернете быть не должно – Общество
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил против жестких ограничений за нарушение морально-этических норм в интернете и СМИ. Глава государства полагает, что в этой сфере лучше действовать аккуратно и набраться терпения.
“В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко. И нужно набраться терпения. Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей”, – сказал Путин в ответ на предложение члена Совета по правам человека Марины Ахмедовой разработать “неписаный закон” по соблюдению морально-этических норм в СМИ и в интернете. Стенограмма встречи президента с членами СПЧ опубликована в пятницу на сайте Кремля.
По мнению Путина, “жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции”. “Это так странно, наверное, звучит из моих уст, но я думаю, что это так”, – подчеркнул глава государства.
Путин согласился с Ахмедовой в том, что в интернете и СМИ очень часты случаи нарушения морально-этических норм. При этом он обратил внимание на то, что “существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество”.
“То, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно”, – заявил российский лидер. “Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура, и вот здесь ключевое слово – культура”, – пояснил Путин.
Повышать уровень культуры
По его мнению, в России “нужно повышать общий уровень культуры, и на этой базе развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах”. “Эти сцены насилия. Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет”, – признался президент. Однако, на его взгляд, публикация подобных сцен “зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи”. “Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять”, – подчеркнул глава государства.
Однако, на его взгляд, публикация подобных сцен “зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи”. “Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять”, – подчеркнул глава государства.
При этом он заметил, что, возможно, “нужно ограничивать и нормативно-правовыми средствами какие-то из ряда выходящие вещи”. “Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать”, – заверил Путин.
Вопросы и ответы о правах человека
Что такое «права человека»?
Права человека – это то, чем, согласно нормам морали, наделен каждый живущий в мире просто в силу того, что он – человек. Добиваясь реализации наших прав, мы обращаемся, как правило, к собственному правительству с позиций морали: так поступать нельзя, потому что это – вторжение в сферу моей морали и оскорбление моего личного достоинства. Никто, ни человек, ни правительство, никогда не может отобрать у нас наших прав человека.
Никто, ни человек, ни правительство, никогда не может отобрать у нас наших прав человека.
Откуда они взялись?
Они возникли потому, что человек помимо физической, имеет также моральную и духовную сущность. Права человека нужны для того, чтобы защитить и сохранить человеческую сущность каждого, чтобы обеспечить каждому человеку достойную жизнь – жизнь, которую человек заслуживает.
Почему кто-то «должен» их уважать?
Прежде всего потому, что человеческая сущность включает и нравственную составляющую. Большинство людей, если им указать на то, что они ущемляют чье-то личное достоинство, постараются этого не делать. Как правило, люди не хотят причинять зла другим. Однако теперь помимо моральных санкций собственной или чужой совести в большинстве стран мира существуют законы, которые обязывают правительства уважать основные права своих граждан, даже если им этого, может быть, и не хочется.
Кто обладает правами человека?
Абсолютно все.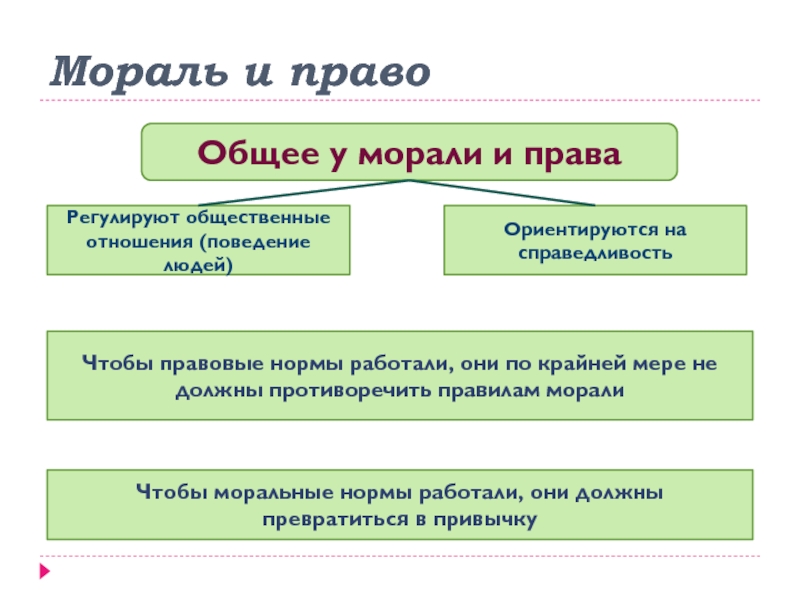 Преступники, главы государств, дети, мужчины, женщины, африканцы, американцы, европейцы, беженцы, лица без гражданства, безработные, работающие, банкиры, лица, обвиняемые в совершении террористических актов, работники благотворительных учреждений, учителя, танцоры балета, астронавты…
Преступники, главы государств, дети, мужчины, женщины, африканцы, американцы, европейцы, беженцы, лица без гражданства, безработные, работающие, банкиры, лица, обвиняемые в совершении террористических актов, работники благотворительных учреждений, учителя, танцоры балета, астронавты…
Даже преступники и главы государств?
Абсолютно все. Преступники и главы государств – тоже люди. Сила прав человека заключается в том, что они признают всех равными с точки зрения обладания человеческим достоинства. Кто-то порой может нарушить чьи-либо права или стать угрозой для общества, и поэтому может возникнуть необходимость тем или иным образом ограничить права таких людей, чтобы защитить права других, но только в определенных пределах. Эти пределы определяются как минимум, необходимый для сохранения человеческого достоинства.
Почему некоторым группам требуются особые права человека? Означает ли это, что у них больше прав, чем у других людей?
Нет, не означает, но некоторые группы, такие как цыгане-рома в Европе, далиты и определенные касты в Индии так долго подвергались дискриминации в том или ином обществе, что потребовались специальные меры, чтобы обеспечить им равный с другими людьми стандарт прав человека. Было бы смешно полагать, что после долгих лет укоренившейся дискриминации и стереотипов, откровенной ненависти и социальных барьеров будет достаточно просто предоставить им общеприменимые права, полагая, что этого будет достаточно для соблюдения равенства.
Было бы смешно полагать, что после долгих лет укоренившейся дискриминации и стереотипов, откровенной ненависти и социальных барьеров будет достаточно просто предоставить им общеприменимые права, полагая, что этого будет достаточно для соблюдения равенства.
Почему речь идет о правах людей, а не об их ответственности?
Несмотря на то, что некоторые философы и НПО выдвинули веские аргументы в пользу необходимости определить меру ответственности людей и даже представили в защиту этого довода свои «кодексы» и «декларации», сообщество правозащитников в целом хранит молчание по поводу этого спора. Причина в том, что многие правительства ставят «дарование» прав в зависимость от определенных обязанностей, налагаемых на людей правительством или правителем, отчего сама идея прав человека изначально теряет смысл. И все же, разумеется, все мы ‒ отдельные люди и группы людей ‒ должны со всей ответственностью относиться к правам других, не злоупотреблять ими, но уважать, как свои собственные права. И в этом свете статья 29 Всеобщей Декларации прав человека признает, что: «1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».
И в этом свете статья 29 Всеобщей Декларации прав человека признает, что: «1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. 2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».
Кто следит за соблюдением прав человека?
Все мы должны за этим следить. Существуют законы, как национальные, так и международные, которые ограничивают свободу действий правительств в отношении своих граждан, но если никто им не укажет на то, что своими действиями они нарушают международные нормы, правительства могут безнаказанно продолжать нарушения. Каждый из нас, как личность, должен в повседневной жизни не только уважать права других, но и внимательно следить за действиями наших и не наших правительств. Системы защиты прав существуют для того, чтобы все мы могли ими воспользоваться.
Системы защиты прав существуют для того, чтобы все мы могли ими воспользоваться.
Как я могу защитить свои права?
Постарайтесь обратить внимание других на то, что ваши права были нарушены; потребуйте их соблюдения. Дайте противоположной стороне понять: вам известно, что она не имеет права обращаться с вами подобным образом. Выделить соответствующие статьи во Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах человека или других международных документах. Если соответствующие законы есть в вашей собственной стране, сошлитесь и на них. Сообщите другим о случившемся: дайте сообщение в печать, напишите вашему депутату парламента и главе государства, проинформируйте об этом неправительственные организации, занимающиеся правами человека. Спросите у них совета. Если есть возможность, поговорите с адвокатом. Постарайтесь, чтобы правительству стало известно о ваших действиях. Дайте ему понять, что вы не собираетесь отступать. Продемонстрируйте поддержку, на которую вы можете рассчитывать. Наконец, если все остальное не помогло, вы можете обратиться в суд.
Наконец, если все остальное не помогло, вы можете обратиться в суд.
Как мне обратиться в Европейский Суд?
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод определяет процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб. Однако принятие дел к рассмотрению регламентируется строгими требованиями. Например, до подачи дела в Европейский суд вы должны подтвердить, что ваша жалоба уже подавалась в национальные суды вашей страны (вплоть до самой высшей инстанции!). Если вы хотите попытаться, и полагаете, что ваша жалоба отвечает установленным требованиям, ее можно представить на официальном бланке, который можно получить в Секретариате. Однако вам настоятельно рекомендуется обратиться за советом к юристу или неправительственным организациям, действующим в этой области, и убедиться, действительно ли у вас есть реальный шанс на успех. Имейте в виду, что вынесению окончательного решения может предшествовать длительный и сложный процесс.
У кого мне требовать соблюдения моих прав?
Соблюдения почти всех основных прав человека, перечисленных в международных соглашениях, вы должны требовать от правительства вашей страны, или от официальных должностных лиц государства. Права человека защищают ваши интересы от посягательств государства, поэтому вы должны требовать их соблюдения от государства или от его представителей. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, например, вашим работодателем или соседом, вы не можете напрямую ссылаться на международные законы о правах человека, за исключением тех случаев, когда правительство вашей страны было обязано принять меры, чтобы не допустить таких действий работодателей или соседей.
Права человека защищают ваши интересы от посягательств государства, поэтому вы должны требовать их соблюдения от государства или от его представителей. Если вы считаете, что ваши права нарушаются, например, вашим работодателем или соседом, вы не можете напрямую ссылаться на международные законы о правах человека, за исключением тех случаев, когда правительство вашей страны было обязано принять меры, чтобы не допустить таких действий работодателей или соседей.
А лежит ли на ком-нибудь обязанность защищать мои права?
Да. Право не имеет смысла, если на кого-то не возложена соответствующая ответственность и обязанность. Моральная обязанность не посягать на ваше личное достоинство возложена на каждого человека, но правительство вашей страны, подписав международные соглашения, несет не только моральную, но и юридическую ответственность.
Права человека – это проблема только недемократических стран?
Даже сегодня в мире нет такой страны, где бы полностью были соблюдены все права человека.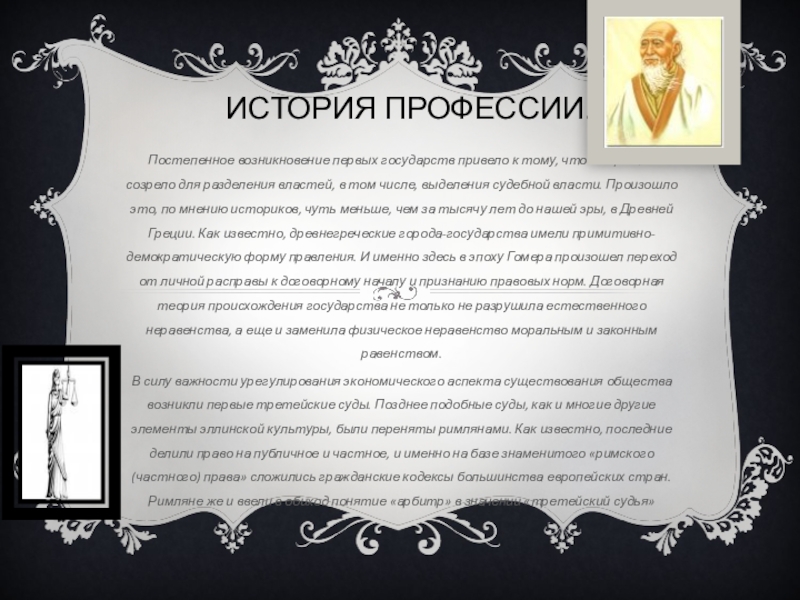 В одних странах нарушения могут происходить чаще, чем в других, затрагивать бóльшую или меньшую часть населения, но всякое, даже единичное нарушение представляет проблему, которая не должна возникать и которой надо заниматься. Человеку, чьи права были нарушены в стране с устоявшейся демократией, вряд ли будет легче от того, что в целом в его стране положение с соблюдением прав человека лучше, чем в других странах мира.
В одних странах нарушения могут происходить чаще, чем в других, затрагивать бóльшую или меньшую часть населения, но всякое, даже единичное нарушение представляет проблему, которая не должна возникать и которой надо заниматься. Человеку, чьи права были нарушены в стране с устоявшейся демократией, вряд ли будет легче от того, что в целом в его стране положение с соблюдением прав человека лучше, чем в других странах мира.
Добились ли мы прогресса в борьбе с нарушениями прав человека?
Большого прогресса – даже если порой он и кажется каплей в море. Вспомните об уничтожении рабства, о предоставлении женщинам права голоса, о странах, которые отменили смертную казнь, об освобождении узников совести в результате международного нажима, о крахе режима апартеида в Южной Африке, о делах, рассмотренных в Европейском суде и законах, измененных в результате этого. Задумайтесь над тем, что постепенное развитие культуры международного общения означает, что даже наиболее авторитарным режимам приходится сегодня считаться с правами человека, если они хотят быть принятыми на международной арене. Положительных результатов было достигнуто много, особенно за последние 50 лет, но гораздо больше еще предстоит сделать.
Положительных результатов было достигнуто много, особенно за последние 50 лет, но гораздо больше еще предстоит сделать.
48. ЗАКОННЫЕ ОЖИДАНИЯ И МОРАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ. Теория справедливости
48. ЗАКОННЫЕ ОЖИДАНИЯ И МОРАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ
Здравый смысл склонен предполагать, что доход, богатство и вообще хорошие вещи в жизни должны распределяться в соответствии с моральными заслугами. Справедливость — это счастье в соответствии с добродетелью. Хотя и признается, что этот идеал никогда не может быть полностью реализован, это подходящая концепция справедливости, по крайней мере, в качестве prima facie принципа, и общество должно пытаться его реализовать, как только это позволят обстоятельства37. Справедливость как честность отвергает эту концепцию. Такой принцип не был бы выбран в исходном положении. Не вполне ясно, как можно определить требуемый критерий в этой ситуации. Более того, идея распределения в соответствии с добродетелью не делает различия между моральными заслугами и законными ожиданиями. Так, индивиды и группы, принимая участие в справедливой организации, выдвигают притязания друг к другу, которые определяются публично признанными правилами. По совершению различных вещей, поощряемых существующей организацией, они приобретают определенные права, и справедливое долевое распределение удовлетворяет эти притязания. Справедливая схема, таким образом, отвечает тому, на что люди имеют право; она удовлетворяет их законные ожидания, базирующиеся на социальных институтах. Но то, на что они имеют право, не пропорционально их подлинной ценности и не зависит от нее. Принципы справедливости, которые регулируют базисную структуру и определяют обязанности и обязательства индивидов, не упоминают о моральных заслугах, а долевое распределение не соответствует им.
Так, индивиды и группы, принимая участие в справедливой организации, выдвигают притязания друг к другу, которые определяются публично признанными правилами. По совершению различных вещей, поощряемых существующей организацией, они приобретают определенные права, и справедливое долевое распределение удовлетворяет эти притязания. Справедливая схема, таким образом, отвечает тому, на что люди имеют право; она удовлетворяет их законные ожидания, базирующиеся на социальных институтах. Но то, на что они имеют право, не пропорционально их подлинной ценности и не зависит от нее. Принципы справедливости, которые регулируют базисную структуру и определяют обязанности и обязательства индивидов, не упоминают о моральных заслугах, а долевое распределение не соответствует им.
Это заключение подтверждается предыдущим описанием предписаний здравого смысла и их роли в чисто процедурной справедливости (§ 47). Например, при определении заработной платы конкурентная экономика придает вес предписанию вклада. Но, как мы уже видели, мера вклада (которая оценивается его минимально эффективной продуктивностью) зависит от спроса и предложения. Конечно, моральная ценность личности не варьируется в зависимости от того, сколько людей предлагают аналогичные навыки или пожелали иметь то, что она может произвести. Никто не предполагает, что когда спрос на чьи-то способности уменьшается, или эти способности ослабевают (как это случается с певцами), моральное достоинство индивида претерпевает аналогичный сдвиг. Все это совершенно очевидно, и все с этим давно согласны38. Это просто отражает уже ранее отмеченный факт (§ 17), что одна из опорных точек наших моральных суждений — это то, что никто не заслуживает своего места в распределении природных задатков больше, чем он заслуживает своего исходного стартового места в обществе.
Но, как мы уже видели, мера вклада (которая оценивается его минимально эффективной продуктивностью) зависит от спроса и предложения. Конечно, моральная ценность личности не варьируется в зависимости от того, сколько людей предлагают аналогичные навыки или пожелали иметь то, что она может произвести. Никто не предполагает, что когда спрос на чьи-то способности уменьшается, или эти способности ослабевают (как это случается с певцами), моральное достоинство индивида претерпевает аналогичный сдвиг. Все это совершенно очевидно, и все с этим давно согласны38. Это просто отражает уже ранее отмеченный факт (§ 17), что одна из опорных точек наших моральных суждений — это то, что никто не заслуживает своего места в распределении природных задатков больше, чем он заслуживает своего исходного стартового места в обществе.
Более того, ни один из принципов справедливости не нацелен на вознаграждение добродетели.
Вознаграждения, завоеванные, например, редкими природными талантами, должны покрывать затраты на подготовку и поощрять усилия, направленные на обучение, а также направлять способности туда, где они наилучшим образом содействуют общему интересу. Результирующее долевое распределение не коррелирует с моральной значимостью, так как изначальное наделение природными задатками и случайности их развития и культивирования в раннем возрасте с моральной точки зрения произвольны. Предписание, которое интуитивно наиболее близко вознаграждению моральной ценности, — это распределение в соответствии с усилиями, или, может быть, лучше сказать, добросовестными усилиями39. И вновь становится ясно, что усилия, которые готов предпринять человек, зависят от его природных способностей и умения и от открытых для него альтернатив.
Результирующее долевое распределение не коррелирует с моральной значимостью, так как изначальное наделение природными задатками и случайности их развития и культивирования в раннем возрасте с моральной точки зрения произвольны. Предписание, которое интуитивно наиболее близко вознаграждению моральной ценности, — это распределение в соответствии с усилиями, или, может быть, лучше сказать, добросовестными усилиями39. И вновь становится ясно, что усилия, которые готов предпринять человек, зависят от его природных способностей и умения и от открытых для него альтернатив.
Более талантливые, скорее, (при прочих равных условиях) будут предпринимать добросовестные усилия, и, как кажется, невозможно не принять в расчет их удачу. Но идея вознаграждения заслуг неосуществима. И безусловно, чем больше упор на предписание потребностей, тем сильнее игнорируется моральная ценность. Базисная структура также не балансирует предписаний справедливости для достижения требуемого соответствия косвенными методами. Она регулируется двумя принципами справедливости, которые полностью определяют другие цели.
Она регулируется двумя принципами справедливости, которые полностью определяют другие цели.
К тому же самому заключению можно прийти другим путем. В предыдущих замечаниях не было дано объяснения понятию моральной ценности, отличному от притязаний личности, основывающихся на его законных ожиданиях. Предположим, таким образом, что мы определяем это понятие и показываем, что оно не коррелирует с долевым распределением. Нам нужно лишь рассмотреть вполне упорядоченное общество, т. е. общество, в котором институты справедливы, и этот факт публично признается. Его члены, кроме того, имеют сильное чувство справедливости, эффективное желание подчиняться существующим правилам и предоставлять друг другу то, на что они имеют право. В этом случае мы можем предположить, что каждый имеет равную моральную ценность. Мы теперь определили это понятие в терминах чувства справедливости, желания вести себя в соответствии с принципами, которые были бы выбраны в исходном положении (§ 72). Но очевидно то, что понятая таким образом равная моральная ценность личностей не влечет равенства долевого распределения.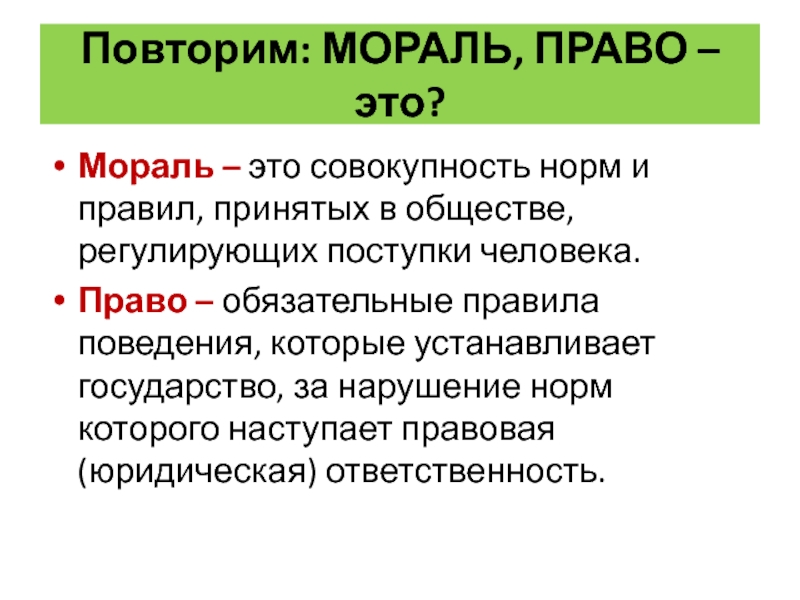
Каждый должен получать то, на что в соответствии с правилами справедливости он имеет право, а они не требуют такого равенства.
Существенно то, что понятие моральной ценности не дает нам какого-либо первого принципа распределительной справедливости. Причина в том, что оно может быть введено только после того, как были признаны принципы справедливости и естественных обязанностей. Как только у нас в распоряжении есть первые принципы, моральная ценность может быть определена как обладание чувством справедливости; и, как будет видно позднее (§ 66), добродетели можно охарактеризовать как желания или тенденции действовать на основе соответствующих принципов. Таким образом, понятие моральной ценности вторично по отношению к понятиям правильности и справедливости и не играет роли в содержательном определении долевого распределения. Этот случай аналогичен отношению между содержательными правилами собственности и законом о грабежах и кражах. Эти преступления и негативные явления, которые они влекут, предполагают институт собственности, которая устанавливается для первичных и независимых социальных целей. Ведь организация самим обществом поощрения моральных заслуг в качестве первого принципа была бы аналогична введению собственности с целью наказания воров. Критерий «каждому в соответствии с его добродетелью» не был бы, следовательно, выбран в исходном положении. Поскольку стороны желают продвигать свои концепции блага, у них нет причин организовывать свои институты так, чтобы долевое распределение определялось посредством моральных заслуг, даже если бы они и могли предварительно найти стандарт для их определения.
Ведь организация самим обществом поощрения моральных заслуг в качестве первого принципа была бы аналогична введению собственности с целью наказания воров. Критерий «каждому в соответствии с его добродетелью» не был бы, следовательно, выбран в исходном положении. Поскольку стороны желают продвигать свои концепции блага, у них нет причин организовывать свои институты так, чтобы долевое распределение определялось посредством моральных заслуг, даже если бы они и могли предварительно найти стандарт для их определения.
Во вполне упорядоченном обществе индивиды обретают притязания на долю своего общественного продукта путем выполнения определенных вещей, которые поощряются существующей организацией. Возникающие законные ожидания являются, так сказать, обратной стороной принципа честности и естественной обязанности справедливости. Ведь точно так же, как человек имеет обязанность поддерживать справедливые устройства и обязательство выполнять свою роль, когда он согласился со своим положением в них, так и человек который подчинился системе и внес свой вклад, теперь имеет праве на соответствующее отношение к себе остальных.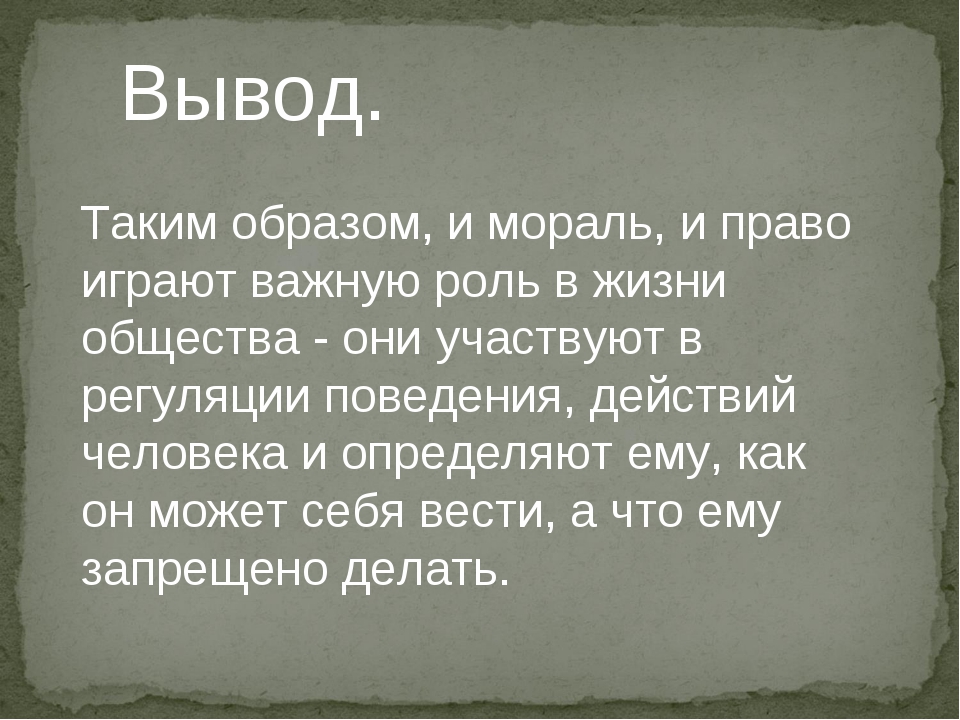
Они обязаны выполнять его законные ожидания. Таким образом, когда существует справедливое экономическое устройство, притязания индивидов должным образом разрешаются через правила и предписания (с из соответствующими весами), которые в нем считаются существенными Как мы уже видели, неверно утверждать, что справедливое долевое распределение вознаграждает индивидов в соответствии с их моральной ценностью. Но мы можем сказать, в традиционном стиле, что справедливая система отдает должное каждому человеку: т. е. она выделяет каждому то, на что он имеет право в соответствии с определением самой системы.
Принципы справедливости для институтов и индивидов устанавливают, что это действие является честным.
Теперь необходимо отметить, что хотя притязания человека регулируются существующими правилами, мы все равно можем провести различие между правом на обладание чем-то и тем, что мы заслуживаем это в привычном, хотя и не моральном смысле40. Вот иллюстрация: после игры часто жалуются, что проигравшая сторона заслуживала победы. Здесь не имеется в виду, что у победителей нет права претендовать на победу или на любые положенные победителю трофеи. Вместо этого имеется в виду, что проигравшая команда в большей степени проявила навыки и качества, которые требуются в этой игре и использование которых и делает спорт привлекательным. Следовательно, проигравшие действительно заслуживали победы, но проиграли в результате невезения или каких-то других случайностей, которые привели к неудаче. Аналогичным образом, даже лучшее экономическое устройство не всегда приводит к наиболее предпочтительным результатам. Притязания, которые в действительности приобретают индивиды, неизбежно в большей или меньшей степени отклоняются от тех, которые системе предназначено дозволять. Некоторые индивиды, находящиеся в привилегированном положении, например, могут не обладать в большей степени, чем другие, желаемыми качествами и способностями. Все это достаточно очевидно. Здесь это важно потому, что хотя мы действительно можем различить притязания, выполнения которых от нас требует существующая организация (с учетом того, что сделали индивиды и как сложились дела), и притязания, которые появились бы в более идеальных условиях, это не значит, что долевое распределение должно согласовываться с моральной ценностью.
Здесь не имеется в виду, что у победителей нет права претендовать на победу или на любые положенные победителю трофеи. Вместо этого имеется в виду, что проигравшая команда в большей степени проявила навыки и качества, которые требуются в этой игре и использование которых и делает спорт привлекательным. Следовательно, проигравшие действительно заслуживали победы, но проиграли в результате невезения или каких-то других случайностей, которые привели к неудаче. Аналогичным образом, даже лучшее экономическое устройство не всегда приводит к наиболее предпочтительным результатам. Притязания, которые в действительности приобретают индивиды, неизбежно в большей или меньшей степени отклоняются от тех, которые системе предназначено дозволять. Некоторые индивиды, находящиеся в привилегированном положении, например, могут не обладать в большей степени, чем другие, желаемыми качествами и способностями. Все это достаточно очевидно. Здесь это важно потому, что хотя мы действительно можем различить притязания, выполнения которых от нас требует существующая организация (с учетом того, что сделали индивиды и как сложились дела), и притязания, которые появились бы в более идеальных условиях, это не значит, что долевое распределение должно согласовываться с моральной ценностью. Даже когда все происходит наилучшим образом, по-прежнему отсутствует тенденция к совпадению распределения и добродетели.
Даже когда все происходит наилучшим образом, по-прежнему отсутствует тенденция к совпадению распределения и добродетели.
Без сомнения, некоторые по-прежнему могут утверждать, что долевое распределение должно соответствовать моральной ценности, по крайней мере, в той степени, в которой это достижимо. Они могут полагать, что в том случае, если наиболее обеспеченные не будут обладать более высокими моральными качествами, обладание большими преимуществами явится оскорблением нашего чувства справедливости. Это мнение может возникнуть в результате рассмотрения распределительной справедливости в качестве противоположности карательной (retributive) справедливости. Верно, что во вполне упорядоченном обществе тот, кто подвергается наказаниям за нарушение справедливых законов, обычно совершает что-то плохое. Это потому, что цель уголовного закона — поддерживать основные естественные обязанности, которые запрещают нам наносить вред жизни и здоровью других или лишать их свободы и собственности; наказания должны служить этой цели.
Они представляют не просто систему испытаний и тягот, предназначенных для придания ценности определенным видам поведения, но и регулирования поведения людей во имя взаимной выгоды. Было бы гораздо лучше, если бы действия, запрещаемые в уголовном кодексе, никогда не совершались41. Таким образом, приверженность к таким поступкам свидетельствует о плохом характере, и в справедливом обществе юридические наказания будут выпадать лишь на долю тех, кто демонстрирует такие черты.
Ясно, что распределение экономических и социальных преимуществ имеет совершенно отличный характер. Эти устройства не являются, так сказать, обращением уголовного права, потому что точно так же как один наказывает за определенные нарушения, второй вознаграждает моральное достоинство42. Функция неравного долевого распределения заключается в том, чтобы покрывать расходы на подготовку и образование, привлекать индивидов в фирмы и ассоциации, которые в них больше всего нуждаются с социальной точки зрения и т. д.
Предполагая, что все принимают уместность мотивации личного или группового интереса, должным образом регулируемой чувством справедливости, каждый решает совершать такие действия, которые лучше всего согласуются с его целями. Вариации в заработной плате, доходе и должностных привилегиях должны просто влиять на эти выборы так, чтобы конечный результат согласовывался с эффективностью и справедливостью. Во вполне упорядоченном обществе не должно быть необходимости в законах о наказании, за исключением тех случаев, когда проблема гарантий не сделает его необходимым. Вопрос криминальной справедливости принадлежит большей частью теории частичного согласия, в то время как описание долевого распределения принадлежит теории строгого согласия и соображениям идеальной схемы. Взгляд на распределительную и карательную справедливости как на противоположности совершенно ошибочен и ведет к другому оправданию долевого распределения, чем то, которое оно на самом деле имеет.
ФАС России | Этический Кодекс государственных гражданских служащих ФАС России
УТВЕРЖДЕН
приказом ФАС России
от 25 февраля 2011 года № 139
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Преамбула
Этический кодекс государственных гражданских служащих Федеральной антимонопольной службы (далее – Кодекс) представляет собой систему требований к поведению государственных гражданских служащих Федеральной антимонопольной службы (далее – государственных служащих), установленных законодательством Российской Федерации, а также моральных норм, основанных на нравственных общепризнанных принципах и нормах российского общества и государства.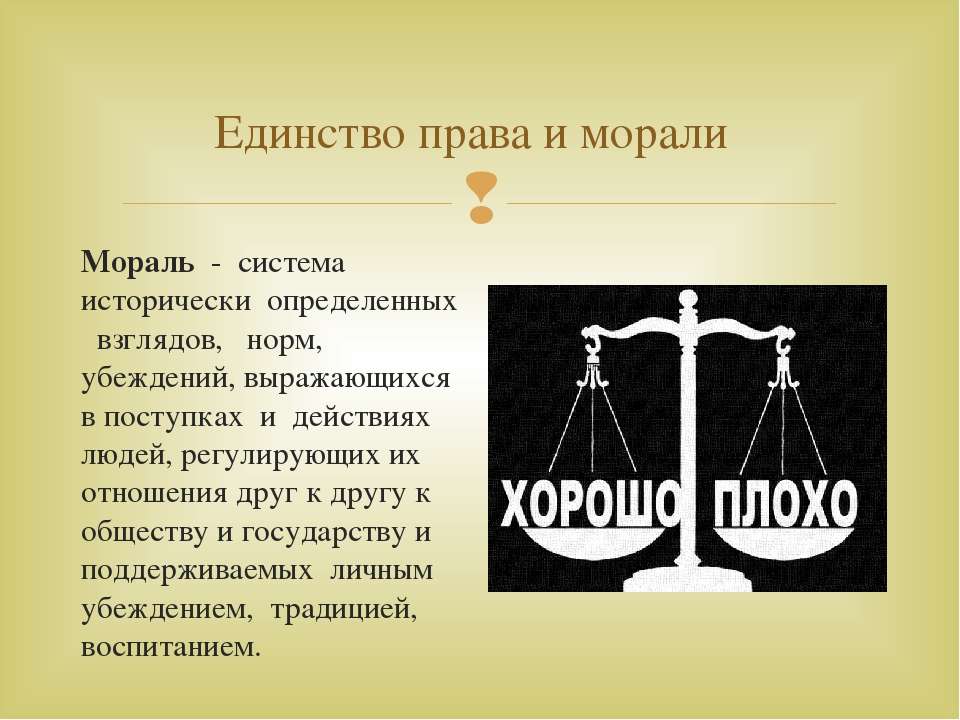 Кодекс является основой для формирования должной морали государственных служащих и выступает как инструмент общественного контроля нравственности государственных служащих и фактор снижения коррупционных рисков.
Кодекс является основой для формирования должной морали государственных служащих и выступает как инструмент общественного контроля нравственности государственных служащих и фактор снижения коррупционных рисков.
Этический кодекс государственного служащего призван содействовать укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан к институтам государства, в частности к ФАС России и его территориальным органам, обеспечить единую нравственную основу для согласованных и эффективных действий Федеральной антимонопольной службы.
Статья 1. Общие положения
- Кодекс основан на нормах поведения государственных служащих, изложенных в Федеральных законах «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О противодействии коррупции», Указе Президента
Российской Федерации «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих».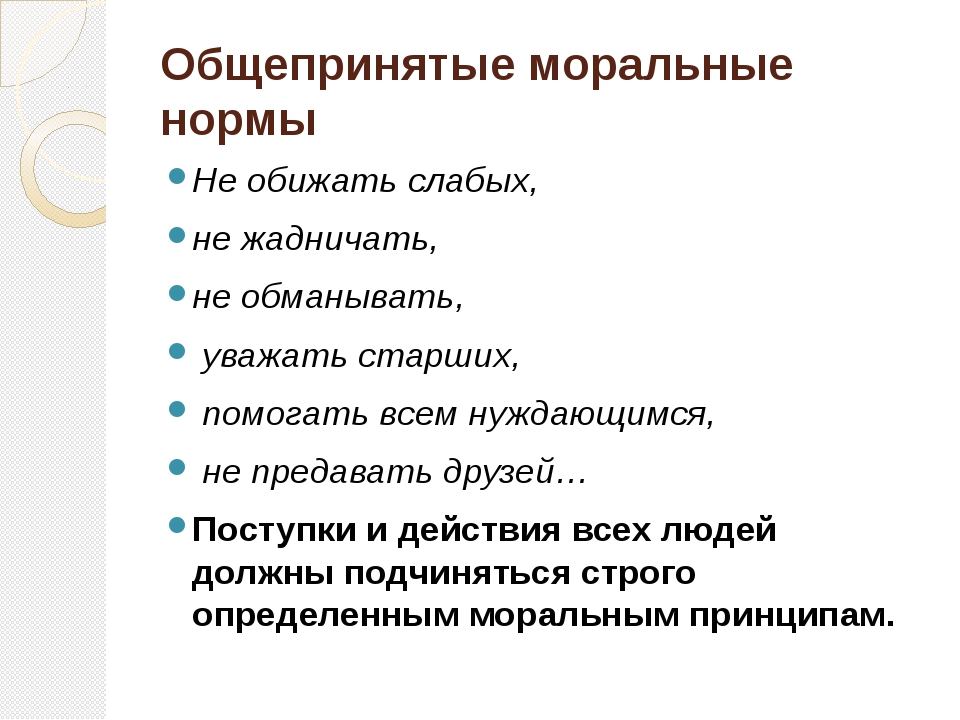
- Гражданин России, замещающий должность государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной антимонопольной службе, должен понимать, что этические нормы государственного служащего являются более строгими, чем нравственные нормы граждан, не занятых в сфере государственного управления.
Статья 2. Сфера действия Кодекса
1. Положения Кодекса применяются ко всем государственным служащим Федеральной антимонопольной службы.
2. При поступлении гражданина на государственную гражданскую службу для замещения должности гражданской службы, орган по управлению государственной службой (Управление государственной службы) представляет государственному служащему Кодекс для ознакомления.
Статья 3. Общие принципы поведения государственных служащих
1. Государственные служащие обязуются посвятить работе время и энергию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
Государственные служащие обязуются посвятить работе время и энергию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
2. Поведение государственных служащих должно создавать отношения доверия и сотрудничества как в самой Федеральной антимонопольной службе, так и с теми, кто с ней взаимодействует.
- Государственные служащие не должны использовать в личных целях информацию, с которой они знакомятся в результате исполнения своих обязанностей, а также не должны публично высказывать своих суждений по поводу
любых конкретных вопросов, по которым ожидается решение Федеральной антимонопольной службы, если это не входит в их должностные обязанности.
- Государственные служащие, наделенные организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим государственным
служащим, обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, по предупреждению коррупции, а также не допускать случаев принуждения государственных служащих к участию в деятельности политических партий, иных общественных объединений.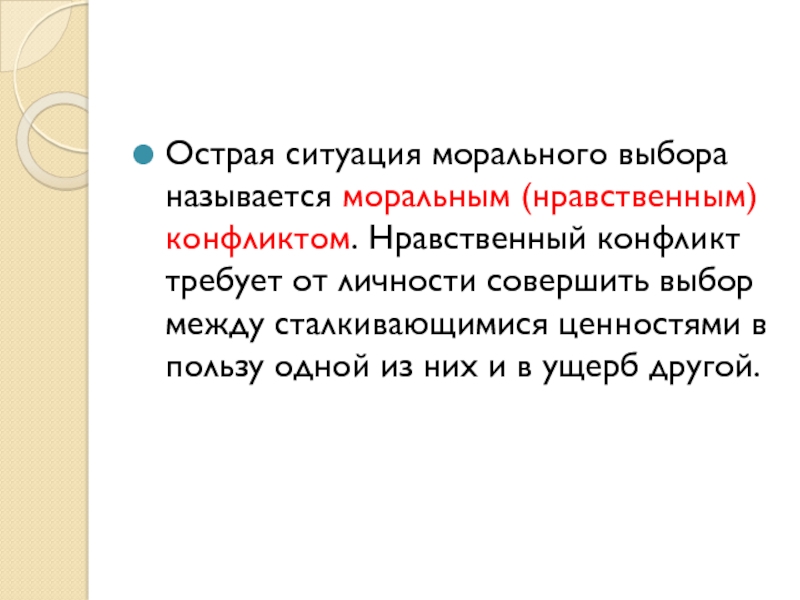
Статья 4. Основные принципы административной морали
государственных служащих
1. Служение государству и обществу.
1.1. Государственная служба представляет собой осуществление полномочий, посредством которых государственный служащий реализует от имени государства его функции.
Защита законных интересов гражданина, общества, государства являются высшим критерием и конечной целью профессиональной деятельности государственного служащего.
1.2. Государственный служащий не имеет права подчинять государственный интерес своему частному интересу, интересам политических, общественных, экономических объединений, интересам других групп и лиц.
- Уважение к личности.
2.1. Признание, соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов человека и гражданина – есть нравственный долг и профессиональная обязанность государственного служащего.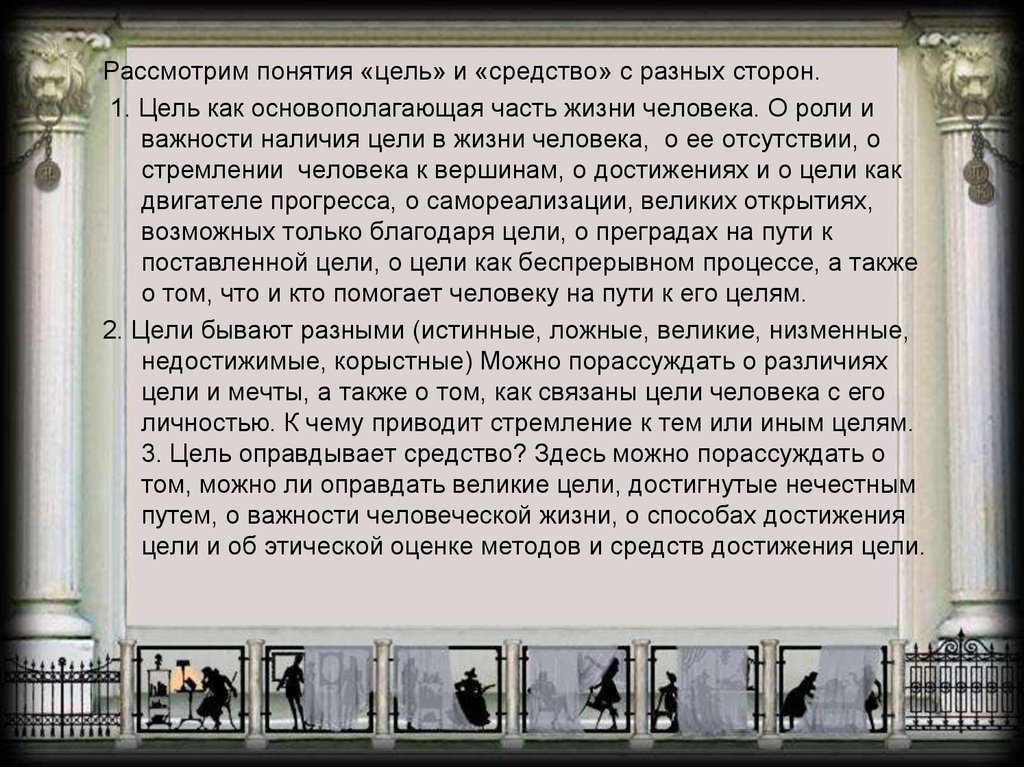
2.2. Государственный служащий должен уважать честь и достоинство любого человека, его деловую репутацию, способствовать сохранению социально-правового равенства в обществе.
2.3. Государственный служащий обязан обеспечивать конфиденциальность ставшей ему известной в связи с исполнением должностных обязанностей информации, затрагивающей частную жизнь, честь и достоинство граждан, если иное не предусмотрено законом.
- Принцип законности.
3.1. Государственный служащий обязан соблюдать и отстаивать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации, обеспечивать их исполнение, быть верным профессиональному долгу. Морально недопустимо нарушать законы, исходя из политических, экономических и иных мотивов. Принцип законности своей деятельности, служебного и внеслужебного поведения должен быть нравственной нормой государственного служащего.
3.2. Нравственный долг государственного служащего обязывает не только его самого строго соблюдать все нормы законов, но и активно противодействовать их нарушениям со стороны своих коллег и руководителей любого ранга.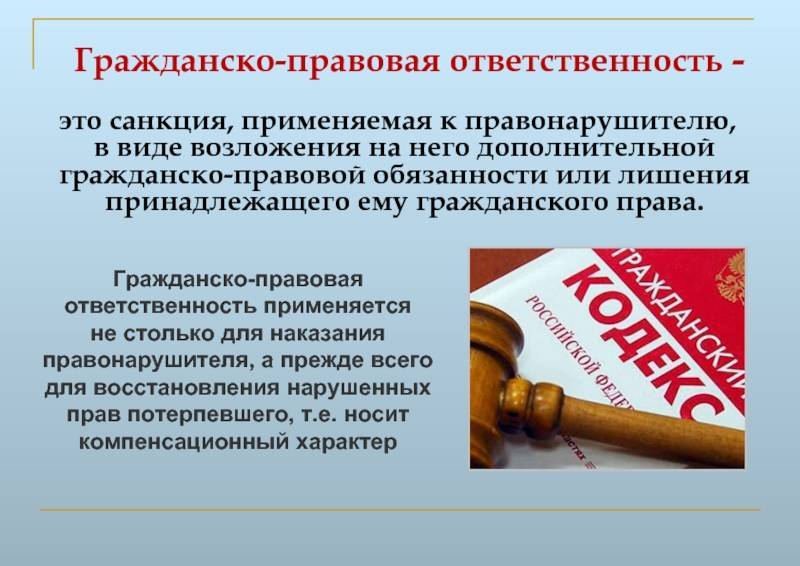
4. Принцип лояльности.
4.1. Государственный служащий обязан осознанно и добровольно соблюдать установленные законодательством Российской Федерации, Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службой требования и нормы, правила служебного поведения. Проявлять верность по отношению к государству, уважение и корректность ко всем государственным и общественным институтам. Поддерживать имидж властных структур, содействовать укреплению их авторитета.
4.2. Государственный служащий обязан вести дискуссию в корректной форме, не подрывающей авторитет государственной службы.
- Принцип беспристрастности.
5.1. Государственный служащий должен действовать беспристрастно, избегая режима наибольшего благоприятствования кому-либо, принимать решения с максимальной прозрачностью, воздерживаясь от создания или использования привилегированных ситуаций.
5.2. В процессе выполнения служебных обязанностей государственный служащий:
5. 2.1. Не должен брать на себя никаких обязательств перед лицами, имеющими отношение к вопросам, рассматриваемым ФАС России, давать им обещания относительно их решения.
2.1. Не должен брать на себя никаких обязательств перед лицами, имеющими отношение к вопросам, рассматриваемым ФАС России, давать им обещания относительно их решения.
5.2.2. Не должен посещать, не имея на то полномочий от непосредственного руководителя, неофициальных встреч с кем-либо, имеющим отношение к его служебным обязанностям, в частности, с представителем хозяйствующего субъекта, учреждения либо ведомства, в отношении которого должно быть принято решение ФАС России.
5.2.3. Встречи с лицами, имеющими отношение к вопросам, рассматриваемым ФАС России, проводить в присутствии не менее одного представителя ФАС России.
5.2.4. Должен воздерживаться от посещения организаций любого рода, где это может привести к каким-то обязательствам, связям или вызвать ожидания, которые могут служить препятствием при осуществлении им установленных законом полномочий.
5.3. При проведении выездных проверок государственный служащий:
5.3.1. Не вправе вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками проверяемой организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его способность действовать независимо.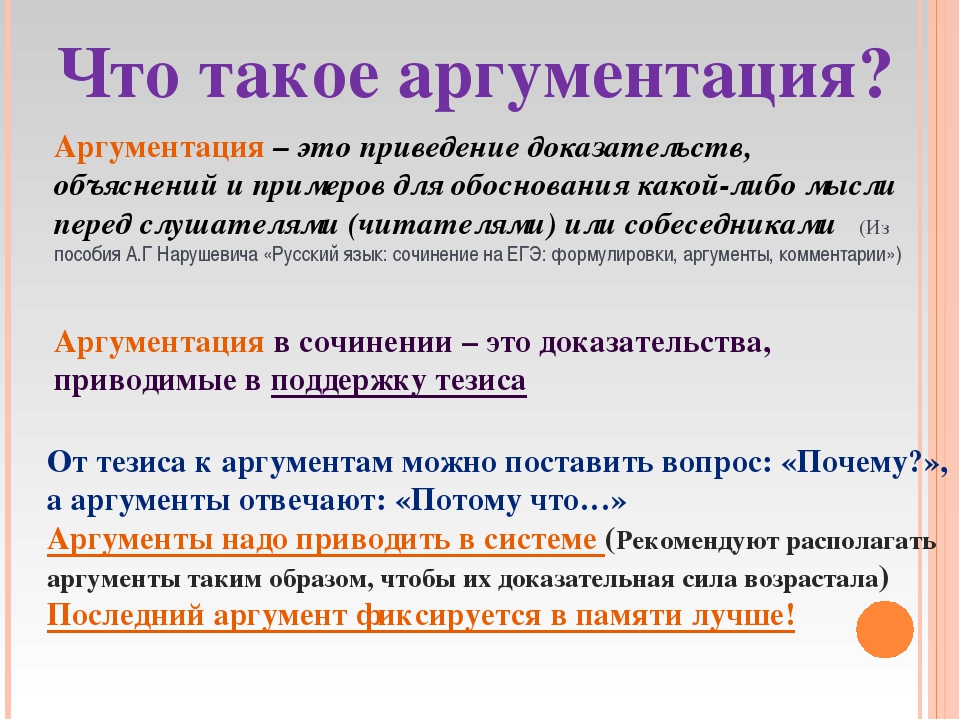
5.3.2. Все переговоры с руководителем проверяемой организации или его представителем руководитель инспекции ФАС России обязан вести в присутствии не менее еще одного члена инспекции.
5.3.3. По завершению выездной проверки и до принятия антимонопольным органом решения в отношении проверяемой организации все переговоры с лицами, так или иначе имеющим отношение к ней вести в порядке, определенном нормативными актами ФАС России.
6. Принцип политической нейтральности.
6.1. Государственный служащий обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность – не высказывать публично в прямом или косвенном виде свои политические симпатии и антипатии, не участвовать в качестве должностного лица в политических акциях.
6.2. Государственный служащий не должен допускать использование материальных, административных и других ресурсов государственного органа для достижения каких-либо политических целей, выполнения политических решений, задач. Особенно тщательно он должен соблюдать нейтральность во время избирательной кампании; его нравственным долгом является неиспользование своего должностного положения и полномочий для предвыборной агитации в свою пользу или пользу других кандидатов, политических партий, избирательных блоков.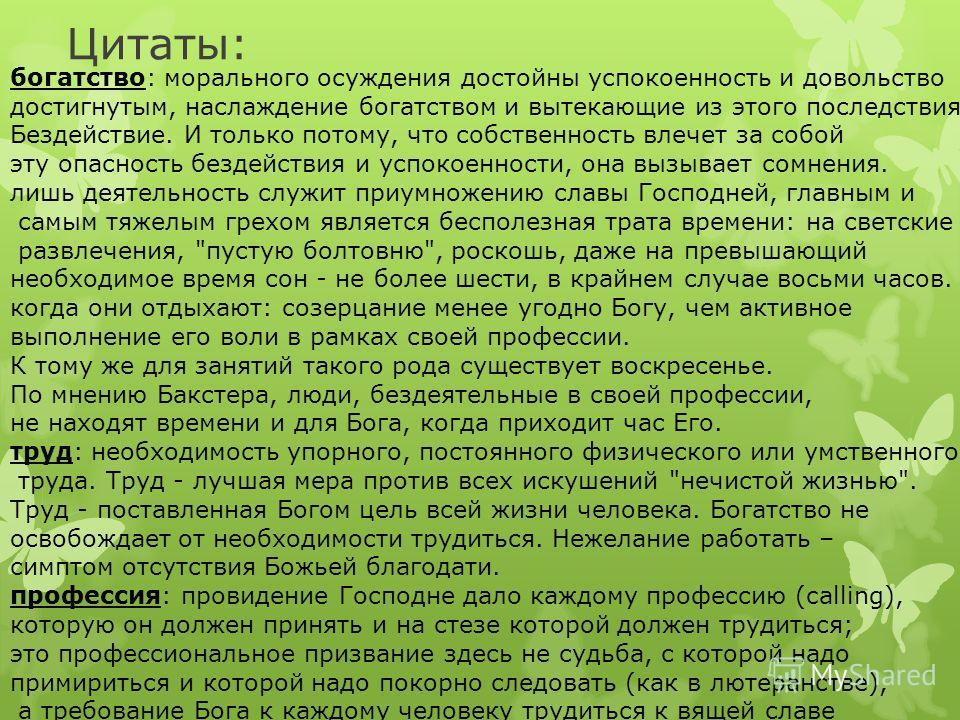
7. Принцип открытости.
7.1. Информация о деятельности ФАС России открыта для общества и каждого гражданина, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
7.2. Государственный служащий должен раскрывать информацию о деятельности ФАС России и своей работе в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком, установленным Правительством Российской Федерации и ФАС России.
Статья 5. Выполнение служебных обязанностей
- Государственный служащий исполняет свои обязанности в соответствии с должностным регламентом добросовестно, ответственно, на высоком профессиональном уровне, в целях обеспечения эффективности работы Федеральной антимонопольной службы.
2. Нравственным долгом и профессиональной обязанностью государственного служащего является стремление к постоянному совершенствованию, к росту своих профессиональных навыков, своей квалификации, к получению новых знаний.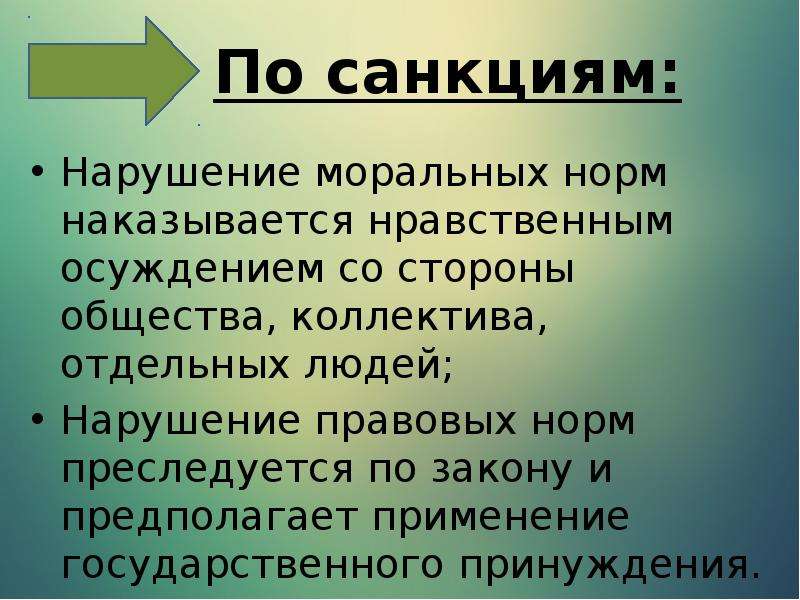
3. Государственный служащий должен посвящать все свое рабочее время выполнению служебных обязанностей, прилагать все усилия для эффективной работы.
- Нравственным долгом и профессиональной обязанностью государственного служащего является открытость для общества своей работы, обеспечение доступности информации о деятельности ФАС России в пределах и порядке, установленных соответствующими законами, иными нормативными правовыми актами Федеральной антимонопольной службы.
- Государственный служащий не должен перекладывать решение подведомственных ему вопросов на своих подчиненных, в рамках своей компетенции должен своевременно принимать обоснованные решения и нести за них личную ответственность.
- Государственный служащий обязан исполнять распоряжения руководства, данные в пределах их полномочий, установленных законодательством, соблюдать субординацию в служебных отношениях.
7. Государственный служащий не вправе исполнять данное ему заведомо неправомерное поручение.
- Государственный служащий вправе требовать предоставления ему полной информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
- Государственный служащий должен использовать только законные и этические способы продвижения по службе.
Государственный служащий не должен признавать и поощрять в любых формах протекционизм, клановость, сговор и иные неформальные отношения и решения в кадровых вопросах.
Статья 6. Этика взаимоотношений в Федеральной антимонопольной службе
- Государственный служащий должен поддерживать доброжелательные отношения в коллективе, стремиться к сотрудничеству с коллегами.
Недопустимо проявление в коллективе аморальных форм поведения.
2. Нетерпимость к поведению сослуживцев или к их действиям должны проявляться в подобающей форме и при наличии серьезных оснований. Недопустимы при этом грубость, унижение человеческого достоинства, бестактность, дискриминация.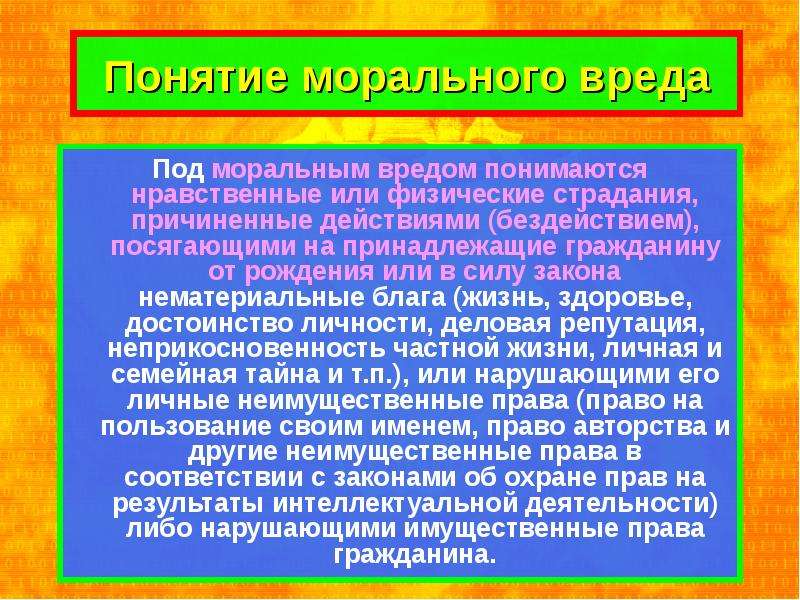
3. Государственный служащий должен соблюдать правила делового поведения, нормы служебной, профессиональной этики.
4. Государственный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями, должен с пониманием относиться к коллегам, имеющим собственное профессиональное суждение, способствовать формированию в коллективе благоприятного психологического климата.
Статья 7. Недопустимость корыстных действий
- Государственный служащий не имеет права использовать служебное положение для организации своей карьеры в бизнесе, политике и других сферах деятельности, нарушая положения данного Кодекса, в ущерб интересам ФАС России.
- В ходе своей служебной деятельности государственный служащий не может давать никаких личных обещаний, которые расходились бы с его должностными обязанностями, игнорировали бы служебные процедуры и нормы.
- Государственный служащий не имеет права пользоваться какими-либо благами и преимуществами для себя и членов своей семьи, которые могут быть предоставлены в целях воспрепятствовать надлежащему исполнению им своих служебных обязанностей.

- Личные доходы государственного служащего подлежат декларированию в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
- Выполнение государственным служащим иной оплачиваемой работы, допустимой в соответствии с законодательством Российской Федерации, возможно только после предварительного письменного уведомления руководителя ФАС России (руководителя территориального органа) о том, какую иную оплачиваемую работу и в какое время он намерен выполнять.
Данная работа не должна влиять на исполнение государственным служащим должностных обязанностей, и не может быть уважительной причиной для отсутствия на рабочем месте в служебное время.
6. Государственный служащий не вправе принимать вознаграждение за посещение и участие в конференциях и иных подобных мероприятиях в порядке, не соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации.
Государственный служащий не может принимать подарки от лиц, стремящихся добиться официальных действий или установления деловых отношений с сотрудником Федеральной антимонопольной службы, а также от лиц, чьи интересы могут в значительной степени зависеть от государственного служащего, получающего подарок.
Государственный служащий не должен принимать деньги или другие подарки за посещение конференций или прочих подобных мероприятий. Командировочные расходы государственному служащему оплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Недопустимо получать подарки в благодарность за совершение каких-либо действий, которые входят в должностные обязанности государственного служащего,
в том числе пожертвования, ссуду, деньги, услуги, а также оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.
Статья 8. Конфликт интересов. Предотвращение коррупционных правонарушений. Защита чести и достоинства.
1. Конфликт интересов возникает в случае, когда государственный служащий имеет личную заинтересованность в ходе осуществления им своих должностных обязанностей, которая влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное их исполнение.
Личная заинтересованность государственного служащего включает в себя любую материальную, карьерную, политическую и всякую иную выгоду для него лично, для его семьи, родственников, друзей, а также для лиц и организаций, с которыми он связан финансовыми, политическими или иными обязательствами.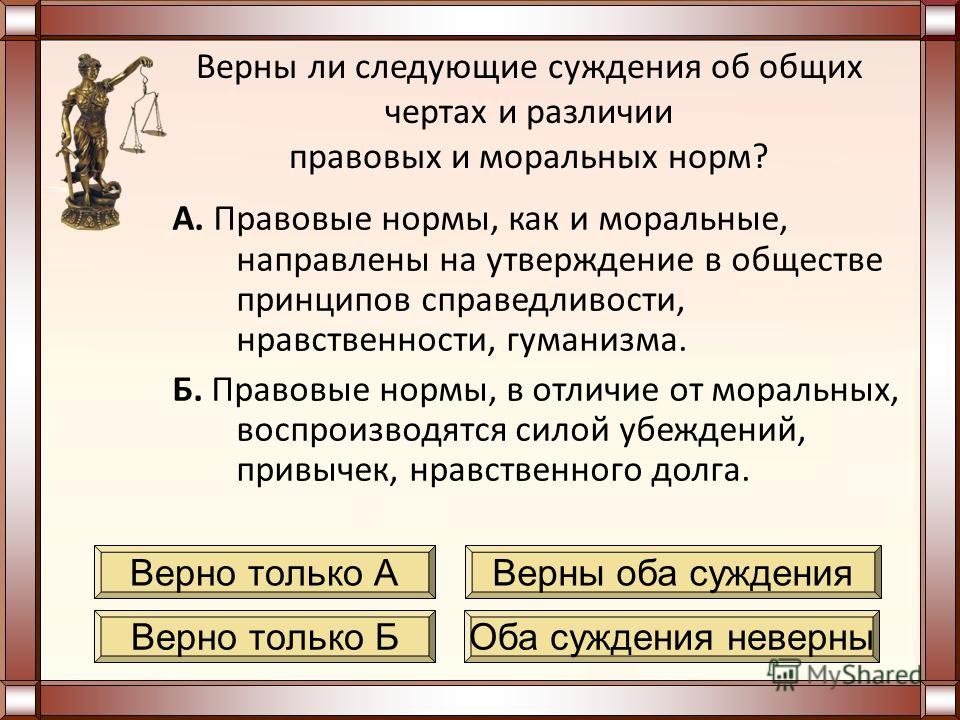
- Долг государственного служащего при конфликте интересов заключается в том, чтобы принимать все необходимые меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; в письменной форме доводить до сведения непосредственного начальника информацию о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только государственному служащему станет об этом известно; подчиниться любому окончательному решению руководителя, требующему разрешения конфликта интересов.
- В целях предупреждения возникновения конфликта интересов при прохождении государственной гражданской службы в Федеральной антимонопольной службе граждане, при поступлении на государственную службу в ФАС России и государственные служащие при назначении на должность или при прохождении аттестации, при выполнении должностных обязанностей, тех или иных распоряжений руководства, обязаны письменно заявить руководителю Федеральной антимонопольной службы либо руководителю территориального органа ФАС России о возможном характере своей личной заинтересованности.

Указанное письменное заявление должно быть направлено до того, как действия гражданского служащего привели к конфликту интересов. Заявление с резолюцией руководителя ФАС России или руководителя территориального органа ФАС России прилагается к личному делу государственного служащего.
- Государственный служащий не должен допускать, чтобы перспектива получения другой работы (после завершения государственной службы) способствовала возникшему или возможному конфликту интересов.
- Заместители руководителя ФАС России, руководители его территориальных органов и начальники структурных подразделений обязаны внимательно относиться к любой возможности возникновения конфликта интересов. В случае возникновения конфликта интересов у подчиненных они обязаны принять предусмотренные законом меры по его предотвращению или его урегулированию.
- Заместители руководителя ФАС России, руководители территориальных органов и начальники структурных подразделений ФАС России должны незамедлительно письменно докладывать руководителю Федеральной антимонопольной службы о случаях конфликта интересов и принятым по ним мерам, а также о тех случаях, когда стороной в существующем или возможном конфликте интересов являются они сами.
 Сокрытие такой информации является дисциплинарным проступком, последствием которого являются меры ответственности, предусмотренные статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Сокрытие такой информации является дисциплинарным проступком, последствием которого являются меры ответственности, предусмотренные статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». - Государственный служащий вправе выполнять иную оплачиваемую работу, допустимую в соответствии с законодательством Российской Федерации, лишь в том случае, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
- Исполняя свои служебные обязанности, гражданские служащие должны избегать принятия решений или участия в действиях, которые могут привести к ситуации злоупотребления служебным положением или создать впечатление о том, что такая ситуация имеет место.
- Государственный служащий обязан нетерпимо относиться к любым видам коррупции и коррупционерам любого уровня.
В разоблачении случаев коррупции государственный служащий не должен считаться с принципом служебной иерархии и коллегиальности и должен немедленно письменно сообщать о ставших ему известными фактах сокрытия случаев конфликта интересов, злоупотребления служебным положением, неполного
раскрытия установленной законом информации и т.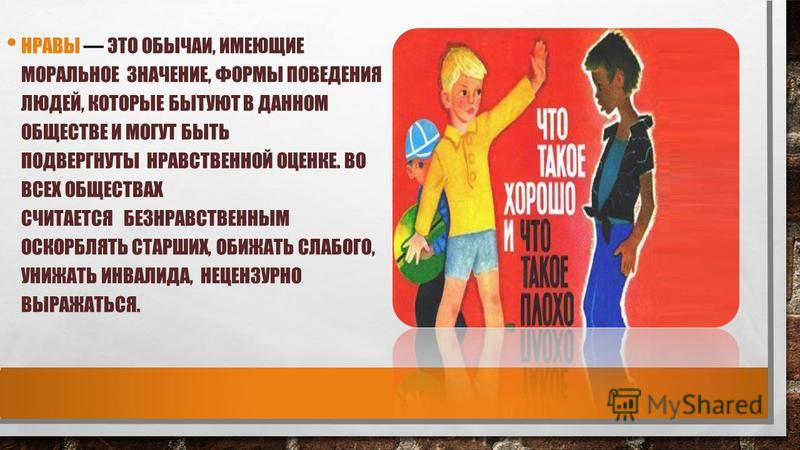 д. руководителю ФАС России, в Комиссию ФАС России по соблюдению требований к служебному поведению
д. руководителю ФАС России, в Комиссию ФАС России по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов.
Должностной обязанностью государственного служащего является письменное уведомление руководителя ФАС России (руководителя территориального органа), органов прокуратуры, или других государственных органов о всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Обязанностью должностных лиц Федеральной антимонопольной службы, получивших такую информацию, является сохранение конфиденциальности источника информации и принятие соответствующих мер реагирования.
- В случае, если государственному служащему стало известно о появлении в средствах массовой информации дискредитирующих его материалов, он вправе представить руководителю ФАС России (руководителю территориального органа) письменное объяснение по данному вопросу и потребовать проведения по данному факту служебной проверки.
 Если опубликованная информация не подтвердится, государственный служащий имеет право на публикацию результатов служебной проверки на официальном сайте ФАС России (сайте территориального органа) и на содействие антимонопольного органа по защите его чести и достоинства в суде.
Если опубликованная информация не подтвердится, государственный служащий имеет право на публикацию результатов служебной проверки на официальном сайте ФАС России (сайте территориального органа) и на содействие антимонопольного органа по защите его чести и достоинства в суде.
Статья 9. Общественный контроль
- Общественный контроль соблюдения государственными служащими должной морали осуществляется посредством обращения граждан в соответствующие, предусмотренные законом, государственные органы, через политические и другие общественные организации, средства массовой информации,
в том числе и посредством созданных при Федеральной антимонопольной службе и при территориальных органах ФАС России Общественно-консультативных советов.
- Гражданские служащие должны уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о
работе ФАС России, оказывать содействие в получении достоверной информации в рамках установленного порядка.
Статья 10. Ответственность за нарушение Кодекса
- Государственный служащий, принимающий на себя обязанности по соблюдению Кодекса, должен осознавать, что его систематическое нарушение не может быть совместимо с его службой в ФАС России.
- Руководители территориальных органов и начальники структурных подразделений ФАС России осуществляют контроль исполнения государственными служащими, находящимися в их подчинении, положений настоящего Кодекса.
- Соблюдение государственным служащим положений настоящего Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формирование кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
Федеральная таможенная служба
Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации (далее – КОДЕКС) определяет морально-этические принципы и правила поведения. Гражданин России, избравший профессию таможенника, добровольно возлагает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения КОДЕКСА, профессионально и честно, в соответствии с высокими моральными принципами поддерживать и укреплять авторитет Федеральной таможенной службы.
Гражданин России, избравший профессию таможенника, добровольно возлагает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения КОДЕКСА, профессионально и честно, в соответствии с высокими моральными принципами поддерживать и укреплять авторитет Федеральной таможенной службы.
1. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации:
должны быть преданны своему Отечеству, защищать его экономические интересы и безопасность, сохранять верность Конституции, Любовь к Родине, верность долгу, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
обязаны быть примером законопослушания, дисциплинированности и исполнительности, осуществлять свою деятельность в соответствии с нормами международного права, законодательством Российской Федерации; профессионализм, компетентность, честность, порядочность и безупречная репутация – основы доверия общества, граждан, представителей делового сообщества к должностному лицу таможенного органа.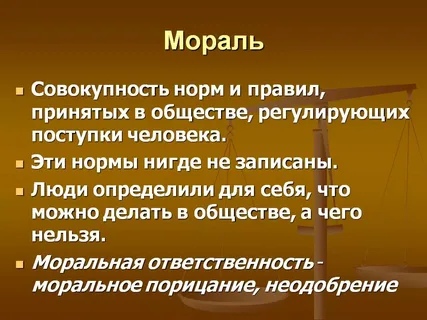
2. Таможенник – представитель Российской Федерации. По культуре его речи и поведения, интеллекту, манерам, внешнему виду, форме одежды судят о таможенной службе и в целом о государстве. Таможенник обязан оправдывать эту высокую честь.
3. С целью обеспечения высокого уровня выполнения своих должностных функций и для улучшения качества представляемых услуг должностные лица таможенных органов обязаны быть тактичны, корректны, внимательны к гражданам и участникам ВЭД, всеми своими действиями обеспечивать соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина.
4. При осуществлении своей деятельности должностные лица таможенных органов должны быть независимыми от влияния со стороны граждан, профессиональных или социальных групп и организаций, участников ВЭД, не использовать свое служебное положение для достижения личных интересов. При этом, должностным лицам следует использовать все законные средства, чтобы обеспечить участникам ВЭД условия для исполнения их обязательств и реализации предоставленных им законом прав.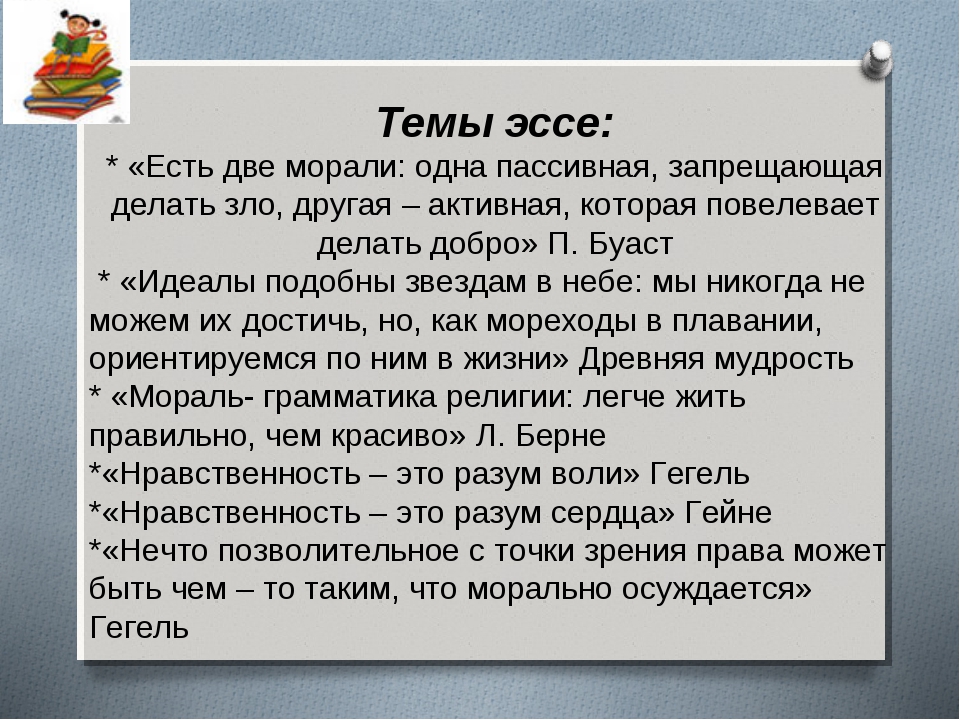
5. При исполнении служебных полномочий должностные лица таможенных органов должны соблюдать политическую нейтральность. Не способствовать и не допускать деятельности по созданию в Федеральной таможенной службе отделений политических партий, религиозных и других общественных объединений (за исключением разрешенных законодательством). В рамках своей служебной деятельности не допускать публичных высказываний, суждений и оценок в отношении государственных органов, их руководителей.
6. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации:
призваны дорожить духовными и нравственными ценностями, завещанными нашими предками, хранить и приумножать лучшие традиции многовековой истории российской таможни, проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и иностранных государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий;
обязаны:
– не допускать конфликта интересов и иных ситуаций, когда личная заинтересованность или личные отношения с гражданами могут повлиять на объективное исполнение служебных обязанностей и привести к обвинениям в недобросовестности;
– уведомлять начальника таможенного органа (представителя нанимателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких либо лиц в целях склонения к свершению коррупционных правонарушений;
должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение у граждан в объективном и добросовестном исполнении ими должностных обязанностей; любые предложения каких-либо услуг, извлечения выгоды, подношений и подарков должны рассматриваться таможенником как попытки подтолкнуть его к нарушению установленного порядка и служебной дисциплины.
7. Все должностные лица таможенных органов должны принимать активное участие в создании благоприятной атмосферы в коллективе, свободной от дискриминации и насилия, в укреплении взаимного доверия и корпоративного духа.
8. Для каждого должностного лица таможенного органа Российской Федерации должно быть нормой безусловное соблюдение этических норм и правил поведения, представленных в настоящем Кодексе.
Принят решением Коллегии ФТС России,
утвержден приказом ФТС России от 14 августа 2007 года № 977
Как нам сбалансировать мораль и закон?
Недавно я обсуждал со студентами-медиками и врачами клинический случай, связанный с поиском баланса между неясными этическими проблемами и соответствующими законами. Один участник откинулся назад и сказал: «Ну, если мы знаем законы, то это конец истории!»
В законах четко сказано, что следует (по закону) делать, но следование законам в данном случае, скорее всего, приведет к плохому результату.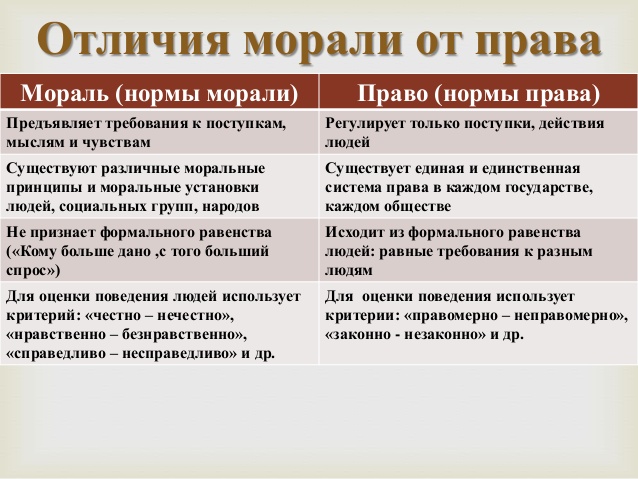 В конце концов, мы разошлись во мнениях относительно того, как поступить с этим делом, но эта дискуссия подняла более важный вопрос: насколько точно мы должны взвешивать закон в моральных размышлениях?
В конце концов, мы разошлись во мнениях относительно того, как поступить с этим делом, но эта дискуссия подняла более важный вопрос: насколько точно мы должны взвешивать закон в моральных размышлениях?
Основное различие между правовым и моральным достаточно легко определить.Большинство людей согласны с тем, что то, что законно, не обязательно является моральным, а то, что аморально, не обязательно должно быть незаконным.
В качестве примера обычно используетсяРабство в США. «Конечно, — скажет хороший современный гражданин, — рабство было неправильным, даже когда оно было законным». Принятие поправки 13 не сделало рабство морально неправильным; это уже было неправильно, и правовые структуры, наконец, догнали моральные структуры.
Есть много аморальных поступков, но они не должны быть незаконными.Например, возможно, аморально сплетничать о личной жизни вашего друга, но большинство согласится с тем, что подобные сплетни не должны быть запрещены. Основное различие между правовым и моральным кажется достаточно простым.
Однако все становится сложнее, когда мы углубляемся в дело. Представьте, что вы идете по проселочной дороге и подходите к пустынному перекрестку. Знак «Пешеход» указывает на то, что вам нельзя переходить улицу. Ты ждешь очень долго.В поле зрения нет ни машин, ни людей, поэтому вы решаете перейти улицу, хотя знаете, что это нарушение закона. Вы сделали что-то незаконное. Но ты сделал что-то аморальное ?
Сценарии, подобные этому, поднимают вопрос о том, есть ли у нас общая моральная обязанность подчиняться законам просто потому, что они являются законами. Это важный вопрос с важными последствиями. Если у нас есть общая моральная обязанность подчиняться закону, то это относится к любому закону, даже к плохим законам.
Например, если в законе говорится, что вы должны сдавать лиц без документов властям, то у вас будет моральное обязательство сделать это, потому что это закон. Сам факт того, что закон есть закон, порождает это обязательство , , но мы могли бы согласиться с тем, что в некоторых случаях это обязательство может быть перевешено, если мы считаем, что сам закон аморален, или если мы чувствуем, что другие наши моральные обязательства перевешивают наши моральные обязательства. обязанность подчиняться закону.
обязанность подчиняться закону.
Эта точка зрения, таким образом, возвращает нас к исходной точке: даже если у нас есть моральное обязательство подчиняться закону, в какой степени оно у нас есть и когда оно перевешивает другие наши моральные обязательства?
Другие в корне не согласны.Они говорят, что вы не сделали ничего морально плохого, перейдя улицу, так как у вас нет общей моральной обязанности подчиняться закону вообще — этому закону или любому другому закону. В конце концов, откуда взялось бы это моральное обязательство? Вы обещали в какой-то момент соблюдать все законы? Вы обязаны правительству подчиняться закону?
Согласно этой точке зрения, у нас есть моральное обязательство подчиняться только тем законам, которые мы считаем нравственными в первую очередь, — хорошим законам, — и только в силу их содержания, а не просто потому, что они являются законами.
Например, нужно подчиняться закону, который гласит: «Не убий», потому что убийство в первую очередь нехорошо; принятие закона не делает его дополнительным морально неправильным.
Это лишь одна из многих загадок об отношениях между сферами законности и морали, но она указывает на важный источник разногласий и путаницы. Могу сказать, что я не согласен с человеком в обсуждении клинического случая, который сказал, что законы — это конец истории. На картинке есть еще кое-что.
Но, помимо этого, я думаю, что нам, как медицинским работникам и специалистам по этике, есть над чем поработать, чтобы еще больше прояснить, как мы должны сбалансировать правовые структуры в нашей работе. Есть ли у нас моральное обязательство подчиняться законам вообще? Если да, то насколько это моральное обязательство? Насколько плохим должен быть закон, чтобы мы могли обоснованно рекомендовать неповиновение?
Кстати, я бы перешла дорогу. Три раза. Просто для острых ощущений.
– Питер Кох, доктор философии, доцент философии Университета Вилланова и выпускник стипендии по клинической этике Центра медицинской этики и политики в области здравоохранения Медицинского колледжа Бейлора
‘Ну, это не незаконно!’ | Новости Университета Центральной Флориды
Как часто вы слышали, как кто-то говорит: «Ну, это не противозаконно!»
Утверждение часто используется для оправдания действия, которое сомнительно с моральной точки зрения, но формально не предотвращается каким-либо законом или правилом. Мы часто слышим это в наше время, особенно в связи с политиками, их деловыми отношениями, финансированием избирательных кампаний, избирательными процессами и так далее.
Мы часто слышим это в наше время, особенно в связи с политиками, их деловыми отношениями, финансированием избирательных кампаний, избирательными процессами и так далее.
Но это не только лучшая защита в Вашингтоне, округ Колумбия. Мы также слышим это на нашем рабочем месте, по соседству и в социальных группах, когда кто-то хочет избавиться от дискомфорта, связанного с плохим выбором.
Правила и законы существуют для защиты и продвижения функций сообществ. Тем не менее, здесь кроется одна из многих вечных проблем типа «курица или яйцо»: что было раньше, соблюдение норм или этика? Мы можем склоняться к мысли, что законы происходят из моральных убеждений о том, что правильно и что неправильно.Но есть много интересных примеров, которые бросают вызов представлению о том, что законы исходят из морали.
Например, некоторые вещи аморальны, но вполне законны. Вы, вероятно, можете привести множество собственных убедительных примеров, но мы предложим лишь некоторые из них.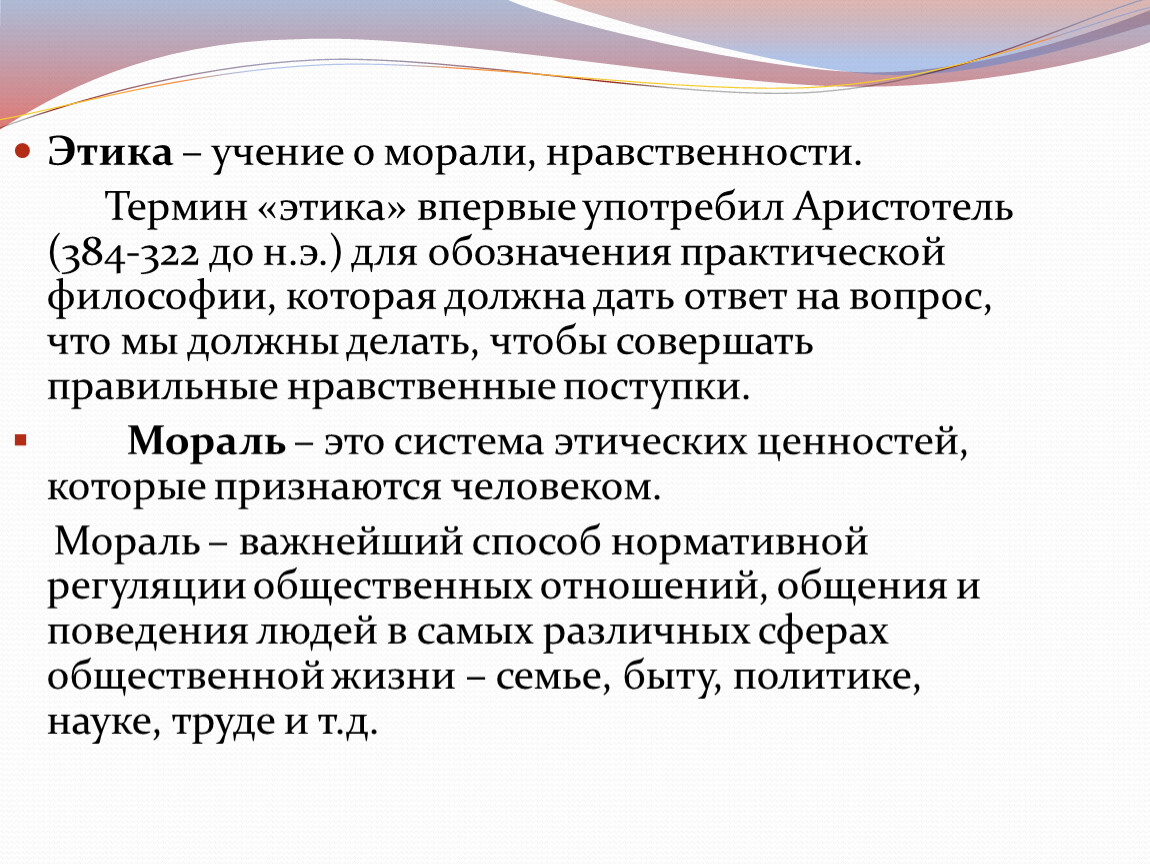 Во-первых, если вы не даете чаевые в ресторане, это не является нарушением закона; но это похоже на преступление, особенно когда сервис хороший. Другой пример: богатые люди и корпорации часто подвергаются резкой критике за использование лазеек, оффшорных счетов и других схем ухода от налогов.Тем не менее, предприятия в большей степени полагаются на ресурсы, финансируемые государством, чем на отдельных лиц, для создания богатства, включая дороги для доставки товаров и услуг, энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, правоохранительные органы, национальную оборону и бюрократию, которая поддерживает государственную, национальную и международную торговлю.
Во-первых, если вы не даете чаевые в ресторане, это не является нарушением закона; но это похоже на преступление, особенно когда сервис хороший. Другой пример: богатые люди и корпорации часто подвергаются резкой критике за использование лазеек, оффшорных счетов и других схем ухода от налогов.Тем не менее, предприятия в большей степени полагаются на ресурсы, финансируемые государством, чем на отдельных лиц, для создания богатства, включая дороги для доставки товаров и услуг, энергетическую и коммуникационную инфраструктуру, правоохранительные органы, национальную оборону и бюрократию, которая поддерживает государственную, национальную и международную торговлю.
Итак, попытка уклониться от уплаты налогов не может быть моральной, но есть много законных способов избежать наказания за это – так что это законно, но аморально. Наша собственная история предлагает лучший и самый печальный пример. До Гражданской войны рабство было законным в США.С., но уж точно не моральный.
В 1970-х годах ограничение скорости на федеральных автомагистралях было снижено до 55 миль в час не для спасения жизней, а для уменьшения потребления нефти в стране.
Итак, превышение скорости тогда было незаконным, но можем ли мы считать его аморальным сейчас?
И есть много обратных примеров, когда действие может быть незаконным , но не обязательно аморальным . Например, в 1970-х годах ограничение скорости на федеральных автомагистралях было снижено до 55 миль в час не для спасения жизней, а для уменьшения потребления нефти в стране.Итак, превышение скорости тогда было незаконным, но можем ли мы считать его аморальным сейчас?
Некоторые примеры зависят от культурного оформления. Возьмем, к примеру, Сингапур, где продажа жевательной резинки запрещена не потому, что это аморально, а для поддержания общественной чистоты. И до недавнего времени в Саудовской Аравии женщинам было запрещено водить машину, отчасти потому, что это считалось аморальным с религиозной точки зрения. Это резко контрастирует с западными нравами, где вождение является обычным делом, а в США это обряд посвящения для всех 16-летних, включая женщин.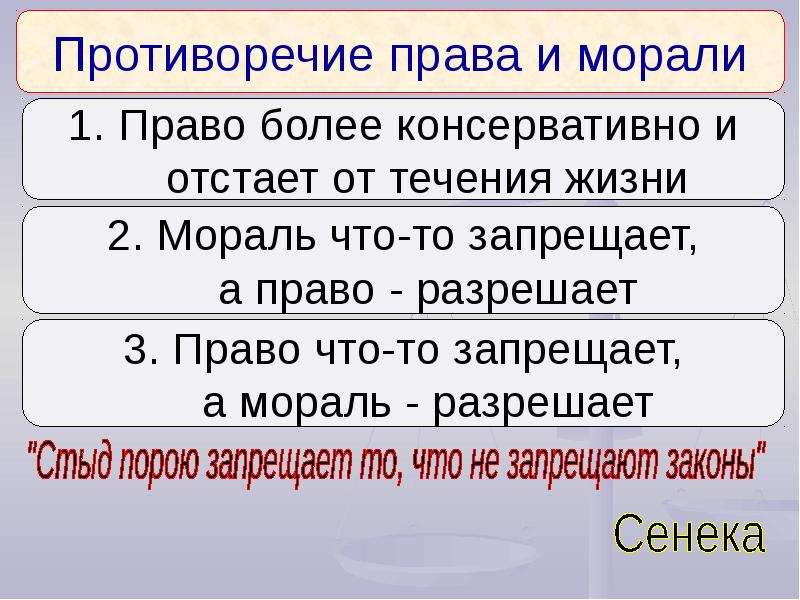
Так какая же связь между законностью и моралью, между соблюдением и этикой? И каковы последствия того, что кто-то пропускает, когда он делает что-то законное, но заставляет нас вздрогнуть с моральной точки зрения?
Мы, безусловно, ожидаем, что люди будут действовать нравственно и этично, даже если нет закона или правоприменения, которые могут привести к последствиям. Мы особенно надеемся, что политики превысят правовые стандарты и сделают этический выбор, потому что они являются избранными лидерами, которые призваны продвигать наилучшие интересы всех граждан.
По сути, мы все должны поступать правильно, а не просто следовать правилам, и мы даже учимся этому в детстве. Подумай об этом. Маленькие дети часто заявляют: «Но ты же не говорил, что я не могу!» Мы говорим нашим детям, что это не делает их действия правильными. Так почему же мы должны ожидать чего-то меньшего от взрослых, особенно от избранных лидеров?
Но более тревожным, чем уклонение политиков от правил, является легкость, с которой их сторонники часто ссылаются: «Ну, это не незаконно.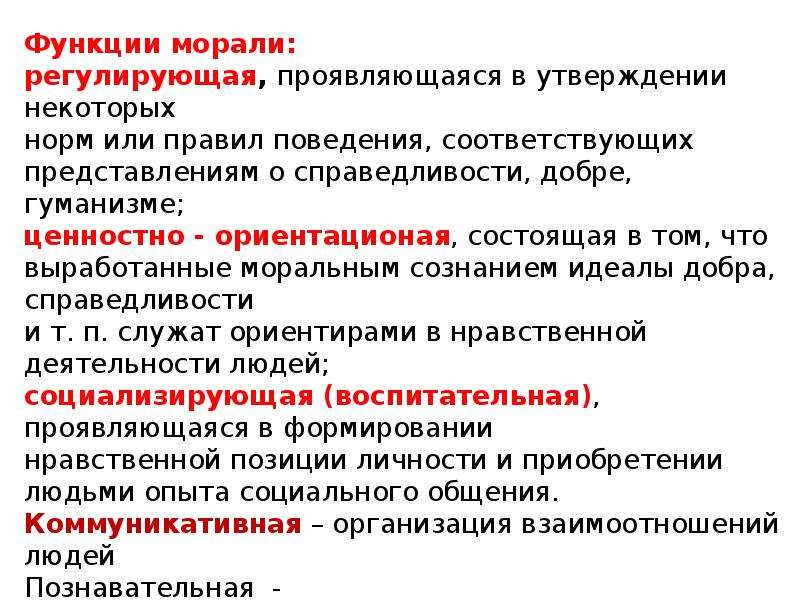 Давайте вернемся на школьный двор, чтобы напомнить о наших социальных стандартах. Мы встревожены издевательствами, и мы не только говорим детям не издеваться, но и упрекаем детей, которые закрывают глаза на издевательства. Мы говорим нашим детям высказываться, защищать слабых и т. д. Точно так же многие национальные организации, университеты и даже федеральное правительство пропагандируют разоблачение.
Давайте вернемся на школьный двор, чтобы напомнить о наших социальных стандартах. Мы встревожены издевательствами, и мы не только говорим детям не издеваться, но и упрекаем детей, которые закрывают глаза на издевательства. Мы говорим нашим детям высказываться, защищать слабых и т. д. Точно так же многие национальные организации, университеты и даже федеральное правительство пропагандируют разоблачение.
Мы хотим поймать плохих парней и восстановить справедливость. Но как это может произойти, если мы не высказываемся и не осуждаем аморальное поведение, даже если оно законно? Возможно, наша готовность отпускать людей, когда они совершают плохие поступки, даже если они законны, подрывает вероятность того, что люди будут следовать правилам, не говоря уже о духе правил.
Стивен М. Кюблер — адъюнкт-профессор химии и оптики химического факультета Университета Центральной Флориды и Колледжа оптики и фотоники. С ним можно связаться по телефону [email protected] .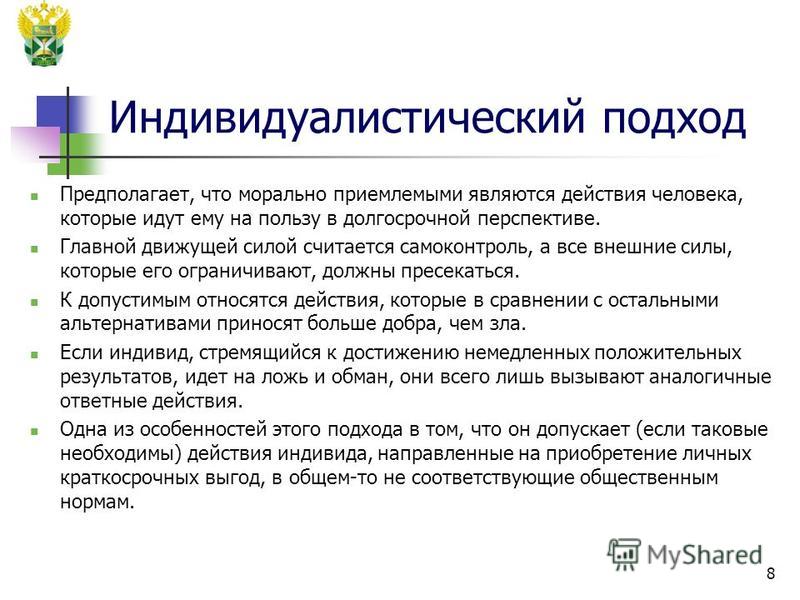
Джонатан Бивер — доцент кафедры этики и цифровой культуры на философском факультете Университета Центральной Флориды и в докторской программе «Тексты и технологии».С ним можно связаться по телефону [email protected] .
Этика и право – Медицинский факультет МУ
Введение
И мораль, и закон пытаются направлять человеческие действия. Как связаны эти две дисциплины? Определение точной взаимосвязи между двумя полями является трудным и противоречивым.
Описательные подходы
Обычно считается, что мораль включает в себя принципы и правила, касающиеся того, как человек должен и не должен себя вести.К морали можно подходить описательно, как социолог, обсуждая взгляды определенной культуры (дескриптивная этика), или нормативно, как верующий, утверждая, что определенные моральные правила являются правильными (нормативная этика). Или можно как философ этики заниматься метаэтикой и задавать вопросы о значении и обосновании морального языка и утверждений.
Что касается права, то социолог может обсуждать правовые системы в описательной форме, не утверждая, что одна лучше другой.Когда кто-то подходит к теме отношения морали к закону исключительно как социолог, становится очевидным, что они не одинаковы, потому что общества относятся к ним по-разному — это разные институты. Мораль исходит из религии, личного или культурного светского происхождения, законы исходят от правительственных чиновников, которые голосуют за них или издают указы. Адвокатов нанимают для юридической экспертизы, а не для того, чтобы давать личные советы по вопросам морали, как это могло бы делать духовенство.
Очень очевидная разница между моралью и законом заключается в том, что закон имеет целый аппарат судов и правоприменения, которому не хватает морали, за исключением некоторых редких случаев, когда религиозные суды занимаются толкованием морали и обеспечением ее соблюдения.Но тогда это больше похоже на моральные правила, которые в то же время являются юридическими правилами.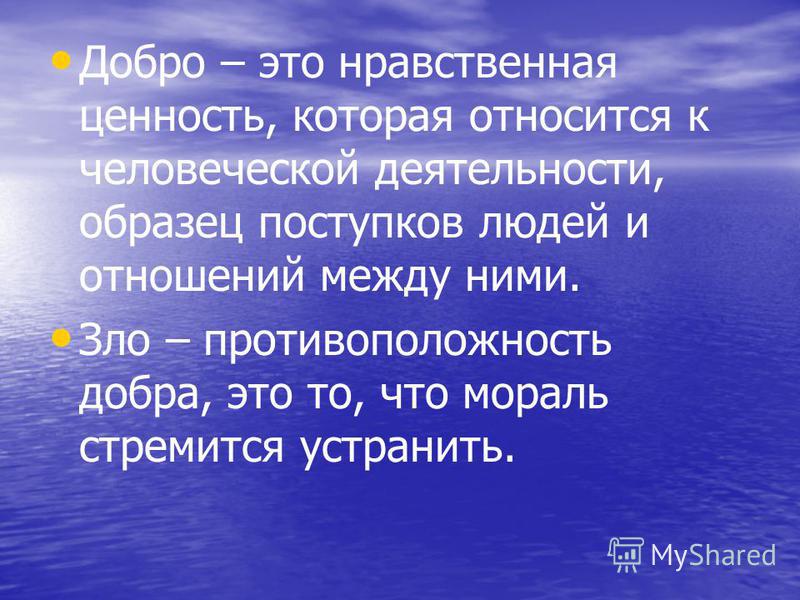
Таким образом, рассматривая мораль и закон как социальные институты, мы видим, что нарушение моральных правил дает один позор, нарушение юридических правил дает один штраф или тюрьму. Закон, в отличие от морали, имеет за собой правоприменительную силу государства. Те, кто действует безнравственно, могут, например, заслужить презрение других, но не подвергаются такому государственному наказанию, если только они не действуют противозаконно. (Некоторые религиозные традиции, однако, считают, что аморальные люди могут быть наказаны Богом в их земной жизни или в загробной жизни.)
С чисто описательной точки зрения можно перечислить некоторые типы поведения, которые при определенных обстоятельствах могут считаться аморальными, но не незаконными:
- Недовольство супругом утром
- Отказ проводить достаточное количество времени со своими детьми
- Обман друга или супруга
- Предпочтение одному ребенку в ущерб другим
- Говорить прохожим, что они уродливы, чтобы испортить им день
- Защитники прав животных считают убийство и поедание нечеловеческих животных аморальным
- Некоторые консервативные христиане и большинство мусульман считают употребление алкогольных напитков аморальным
- Адвентисты седьмого дня считают употребление напитков с кофеином аморальным
- Некоторые консервативные христиане считают танцы аморальными
Вот некоторые действия, которые могут быть незаконными, но не аморальными:
- Незаполнение формы регистрации транспортного средства в трех экземплярах, как того требует закон
- Переход в неположенном месте, когда поблизости нет движения, нет других опасностей и вы не подаете плохой пример
- Плевки в черте города
- Выгуливать собаку без поводка, когда никого нет рядом
- Смешивание пищевых отходов с бумажным мусором
Некоторые люди считают, что нарушение закона автоматически является аморальным поступком, но в приведенных выше примерах мы приводим примеры действий, которые в противном случае не были бы аморальными, в отличие от таких действий, как убийство и воровство.
Юридический позитивизм
Этот описательный тип подхода, который видит четкое различие между моралью и законом, характерен для юридического позитивизма, который появился на сцене лишь в течение последних нескольких столетий. В девятнадцатом и особенно двадцатом веках люди начали думать, что может быть относительно нейтральное объяснение таких человеческих институтов, как мораль, религия, закон и другие аспекты культуры и общества. Сегодня эта точка зрения кажется здравой, но несколько лет назад она была довольно революционной.
То же самое произошло и в изучении религии. Раньше под изучением религии подразумевалось, что вы посещаете семинарию или посещаете курсы, предлагаемые с точки зрения конкретной религии или деноминации, которая является правильной или лучшей. Но теперь вы можете пройти относительно нейтральные курсы в любом крупном университете. Так, в светском университете есть курсы религии, на которых студенты узнают о христианстве, исламе, буддизме и т. д. Преподавание носит более или менее описательный характер, нейтрально представляя традиции и взгляды религии.
д. Преподавание носит более или менее описательный характер, нейтрально представляя традиции и взгляды религии.
Аналогичная концепция права присутствует в юридическом позитивизме. Юридический позитивизм в основном считает, что законы страны таковы, какими их называет правительство. Они не произвольны; они основаны на рассуждениях и решениях, но они не нуждаются в какой-либо дополнительной проверке, кроме как в том, что они санкционированы законным правительством. Законы разных юрисдикций могут изучаться социологами и правоведами точно так же, как и любая другая область, например, принципы бухгалтерского учета. Законы не обязательно тесно связаны с этикой.Могут быть несправедливые, несправедливые, просто неправильные законы, такие как расистские, антисемитские или иные дискриминационные законы.
Естественное право
С другой стороны, можно было бы рассмотреть отношения между моралью и законом, приняв нормативный подход вместо описательного подхода, использованного выше. Допустим, что, поскольку общественные институты, мораль и право различны, все же будет ли идеальная, наиболее правильная система морали совпадать или следовать за идеальной, наиболее правильной системой права? Являются ли они по сути одним и тем же, за исключением того, что у одного (закона) есть «зубы» в смысле власти наказывать за несоблюдение? Или это две совершенно разные вещи: мораль, основанная на самой конечной реальности, а закон — просто человеческая условность или иногда кажущиеся произвольными решения политиков?
Допустим, что, поскольку общественные институты, мораль и право различны, все же будет ли идеальная, наиболее правильная система морали совпадать или следовать за идеальной, наиболее правильной системой права? Являются ли они по сути одним и тем же, за исключением того, что у одного (закона) есть «зубы» в смысле власти наказывать за несоблюдение? Или это две совершенно разные вещи: мораль, основанная на самой конечной реальности, а закон — просто человеческая условность или иногда кажущиеся произвольными решения политиков?
Выше мы указали на кажущиеся различия между моралью и законом, но не следует преувеличивать значение кажущихся различий на описательном уровне.Мораль и закон имеют много общего — в некотором роде они кажутся тесно связанными. Существует очень много морально недопустимых действий, которые также являются незаконными (например, убийство, изнасилование, воровство и т. д.), и многие мыслители утверждают, что моральная недопустимость такого поведения является причиной того, что юридические лица объявляют такие действия незаконными.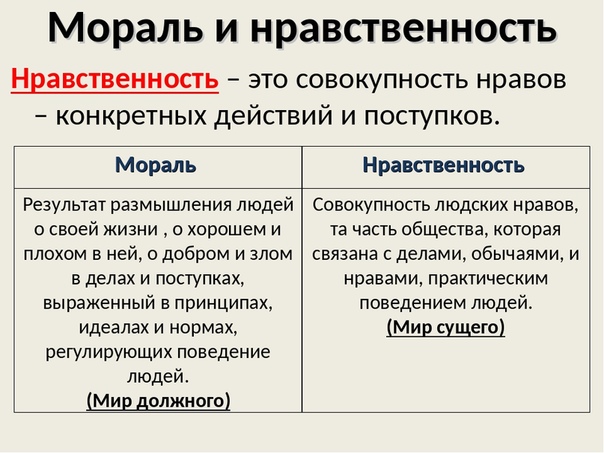 Случайно ли то, что мы считаем убийство аморальным, а также делаем его незаконным? Почему так много незаконных действий также считались бы аморальными, если бы истинное основание закона было иным, чем мораль? Некоторые люди на самом деле считают закон «институционализированной моралью».
Случайно ли то, что мы считаем убийство аморальным, а также делаем его незаконным? Почему так много незаконных действий также считались бы аморальными, если бы истинное основание закона было иным, чем мораль? Некоторые люди на самом деле считают закон «институционализированной моралью».
Мы могли бы попытаться провести различие между фактическими законами конкретного правительства и концепцией наилучшей, идеальной, правильной системы законов. Это различие и тот факт, что мораль, по-видимому, лежит в основе многих законов, намекают на естественно-правовой подход. Теория естественного права утверждает, что авторитет и легитимность реальных законов зависят от морали. Отсюда известное утверждение Августина о том, что «несправедливый закон на самом деле не есть закон». Более современные версии теории естественного права признают, что плохие законы считаются реальными законами и могут быть признаны плохими правовыми нормами, но самые основные правовые принципы вытекают из моральных истин.
Сферы Закона
Право в разных частях мира демонстрирует различия, которых на самом деле нет в морали. Некоторые страны, такие как США, подчеркивают роль прецедента более ранних судебных решений при рассмотрении текущих дел. Это известно как традиция общего права. Другие страны, например страны континентальной Европы, которые используют традицию гражданского права, больше подчеркивают роль статутов и правил.
Уже упомянутая правоприменительная сторона закона есть отличие от морали.Законодатели должны учитывать реальность правоприменения при принятии закона. Хорошо известные проблемы, возникшие во время сухого закона, ясно показали это. Мораль не беспокоится об этом — что-то может быть не так, независимо от того, сможем ли мы заставить людей воздержаться от этого. Также в законе следует учитывать тот факт, что при преследовании правонарушителей необходимо представить в суде доказательства, подтверждающие правонарушение. Специалисты по этике обычно спорят о том, что правильно, а что неправильно, но не тратят много времени на беспокойство о том, как можно доказать, что кто-то сделал что-то неправильно.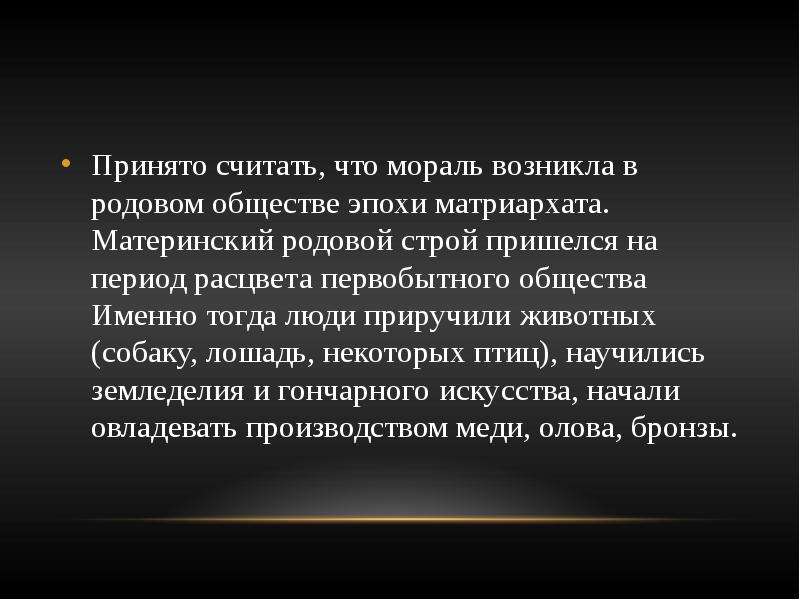
Мораль и закон в здравоохранении
Кажется, что некоторые предприятия не понимают и не ценят мораль выше закона, но не совсем так, как предполагает естественный закон. Для таких предприятий моральное деловое поведение состоит просто в соблюдении закона. Этические вопросы решаются корпоративными юристами или с привлечением услуг внешней юридической фирмы. Если это противоречит закону, не делайте этого. Если это не противоречит закону, то считается морально допустимым. Никто не думает, что компания или ее сотрудники могут быть морально обязаны выйти за рамки того, что требует закон, чтобы «поступать правильно».
Это иногда происходит в здравоохранении. Но многие современные больницы и связанные с ними учреждения часто проводят неявное различие между моралью и законом, проводя различие между этическими и юридическими функциями и персоналом. Могут быть адвокаты больницы или отдел управления рисками, который занимается юридическими и некоторыми этическими вопросами. Но клинические этические вопросы передаются группам врачей и священнослужителей, а иногда и комитету по этике, состоящему из представителей различных частей организации.
Но клинические этические вопросы передаются группам врачей и священнослужителей, а иногда и комитету по этике, состоящему из представителей различных частей организации.
Область, в которой мораль и закон схожи в здравоохранении, заключается в том, что и то, и другое можно рассматривать как состоящее из общих принципов или правил, применимых к конкретным случаям или ситуациям. Не всегда ясно, какое правило или принцип применим к той или иной ситуации. Во многих обществах, в том числе в Соединенных Штатах, большое внимание уделяется определению того, какой закон применяется и определяет законность или незаконность конкретного действия человека. Суды решают это в конкретных случаях, которые создают прецеденты, которые затем цитируются в более поздних аналогичных делах.То же самое должно произойти и в этике здравоохранения. Иметь моральные принципы недостаточно; необходимо уделить внимание вопросу о том, какие принципы и правила применяются в той или иной конкретной ситуации. Это внимание к необходимости не только правил и принципов, но и чрезвычайно тщательного определения применения этих правил к конкретным ситуациям высоко ценится в праве, но, возможно, недооценивается в морали.
Ван дер Бург отмечает взаимовлияние морали и закона на развитие биомедицинской этики.Юристы и специалисты по этике работали вместе над разработкой таких доктрин, как информированное согласие. Некоторые концепции, фигурирующие в дискуссиях по вопросам этики, такие как право на неприкосновенность частной жизни, уходят корнями в закон. И в последние десятилетия в биомедицинской этике произошел некоторый сдвиг от подхода, основанного на принципах, к подходу, основанному на конкретных случаях. Подход, основанный на прецедентах, очевидно опирается на правовую традицию судебных дел и прецедента.
Разговоры о правах, в частности, кажутся любопытным сочетанием юридических и моральных концепций.Разговоры о правах человека толковали их как неотъемлемые, самоочевидные «естественные права». Они существовали бы совершенно отдельно от любого правительства, признающего их в законе. Так что они были ближе к идеальному закону или к моральному вопросу. Однако за прошедшие столетия многие говорили о правах как о юридических правах. В последние годы некоторые приложили усилия, чтобы отличить «юридические» права от «моральных» прав. Но много разговоров по-прежнему смешивают понятия.
В последние годы некоторые приложили усилия, чтобы отличить «юридические» права от «моральных» прав. Но много разговоров по-прежнему смешивают понятия.
Каталожные номера
Вибрен Ван Дер Бург, «Право и этика»
Природа права (Стэнфордская философская энциклопедия)
1.1 Условия юридической силы
Основное понимание юридического позитивизма состоит в том, что условия правового
обоснованность определяется социальными фактами, включает в себя два отдельных утверждения
которые были названы «Социальный тезис» и «Тезис разделения».
«Социальный тезис» утверждает, что право, по сути, является социальным
явление, и что условия юридической действительности состоят из
социальные, то есть ненормативные, факты. Раннее юридическое
позитивисты последовали гоббсовской мысли о том, что закон
по сути, инструмент политического суверенитета, и они
утверждал, что основным источником юридической силы является
факты, составляющие политический суверенитет. Закон, думали они,
в основном повеление государя. Более поздние юридические позитивисты
изменил эту точку зрения, утверждая, что социальные правила, а не факты
о суверенитете, составляют основу права. Самый современный
Юридические позитивисты разделяют точку зрения, что существуют правила признания,
а именно, социальные правила или соглашения, которые определяют определенные факты или
события, обеспечивающие способы создания, модификации и
отмена правовых норм. Такие факты, как акт
законодательством или судебным решением являются источников права условно определены как таковые в каждом и
любая современная правовая система.Один из способов понимания законодательства
позитивистская позиция здесь состоит в том, чтобы рассматривать его как форму редукции:
позитивизм утверждает, по существу, что юридическая действительность сводится к
факты ненормативного типа, то есть факты о поведении людей,
убеждения и установки.
Закон, думали они,
в основном повеление государя. Более поздние юридические позитивисты
изменил эту точку зрения, утверждая, что социальные правила, а не факты
о суверенитете, составляют основу права. Самый современный
Юридические позитивисты разделяют точку зрения, что существуют правила признания,
а именно, социальные правила или соглашения, которые определяют определенные факты или
события, обеспечивающие способы создания, модификации и
отмена правовых норм. Такие факты, как акт
законодательством или судебным решением являются источников права условно определены как таковые в каждом и
любая современная правовая система.Один из способов понимания законодательства
позитивистская позиция здесь состоит в том, чтобы рассматривать его как форму редукции:
позитивизм утверждает, по существу, что юридическая действительность сводится к
факты ненормативного типа, то есть факты о поведении людей,
убеждения и установки.
Юристы-натуралисты отрицают это понимание, настаивая на том, что предполагаемая норма
не может стать юридически действительным, пока не преодолеет определенный порог
мораль. Позитивное право должно соответствовать по своему содержанию некоторым основным
предписаний естественного права, то есть всеобщей морали, чтобы
стать законом в первую очередь.Другими словами, естественные юристы утверждают
что нравственное содержание или достоинство норм, а не только их социальные
происхождения, также являются частью условий юридической действительности. И опять,
можно рассматривать эту позицию как нередуктивную концепцию
права, утверждая, что юридическая действительность не может быть сведена к ненормативной
факты. Смотрите запись на
теории естественного права.
Позитивное право должно соответствовать по своему содержанию некоторым основным
предписаний естественного права, то есть всеобщей морали, чтобы
стать законом в первую очередь.Другими словами, естественные юристы утверждают
что нравственное содержание или достоинство норм, а не только их социальные
происхождения, также являются частью условий юридической действительности. И опять,
можно рассматривать эту позицию как нередуктивную концепцию
права, утверждая, что юридическая действительность не может быть сведена к ненормативной
факты. Смотрите запись на
теории естественного права.
Тезис о разделении является важным негативным следствием
Социальный тезис, утверждающий, что существует концептуальное разделение
между правом и моралью, то есть между тем, что есть право, и тем, что
закон должен быть.Однако тезис о разделении часто
завышено. Иногда думают, что естественный закон утверждает, а юридический
позитивизм отрицает, что закон по необходимости морально хорош или что
закон должен иметь какое-то минимальное моральное содержание. Социальный тезис
конечно, не влечет за собой ложности предположения, что существует
что-то обязательно хорошее в законе. Юридический позитивизм может принять
утверждают, что право по самой своей природе или своим основным функциям
общество, что-то хорошее, что заслуживает нашей моральной оценки.И не
юридический позитивизм вынужден отрицать правдоподобное утверждение, что везде, где право
существует, она должна была бы иметь очень много предписаний, совпадающих
с моралью. Вероятно, существует значительное совпадение, и, возможно,
необходимо так, между действительным содержанием права и морали. Один раз
опять же, тезис о разделении, правильно понятый, относится только к
Условия юридической силы. Он утверждает, что условия правового
действительность не зависит от моральных достоинств рассматриваемых норм.
Что такое закон, не может зависеть от того, каким он должен быть в соответствующем
обстоятельства.
Социальный тезис
конечно, не влечет за собой ложности предположения, что существует
что-то обязательно хорошее в законе. Юридический позитивизм может принять
утверждают, что право по самой своей природе или своим основным функциям
общество, что-то хорошее, что заслуживает нашей моральной оценки.И не
юридический позитивизм вынужден отрицать правдоподобное утверждение, что везде, где право
существует, она должна была бы иметь очень много предписаний, совпадающих
с моралью. Вероятно, существует значительное совпадение, и, возможно,
необходимо так, между действительным содержанием права и морали. Один раз
опять же, тезис о разделении, правильно понятый, относится только к
Условия юридической силы. Он утверждает, что условия правового
действительность не зависит от моральных достоинств рассматриваемых норм.
Что такое закон, не может зависеть от того, каким он должен быть в соответствующем
обстоятельства.
Многие современные юридические позитивисты не подписались бы под этим.
Формулировка тезиса о разделении.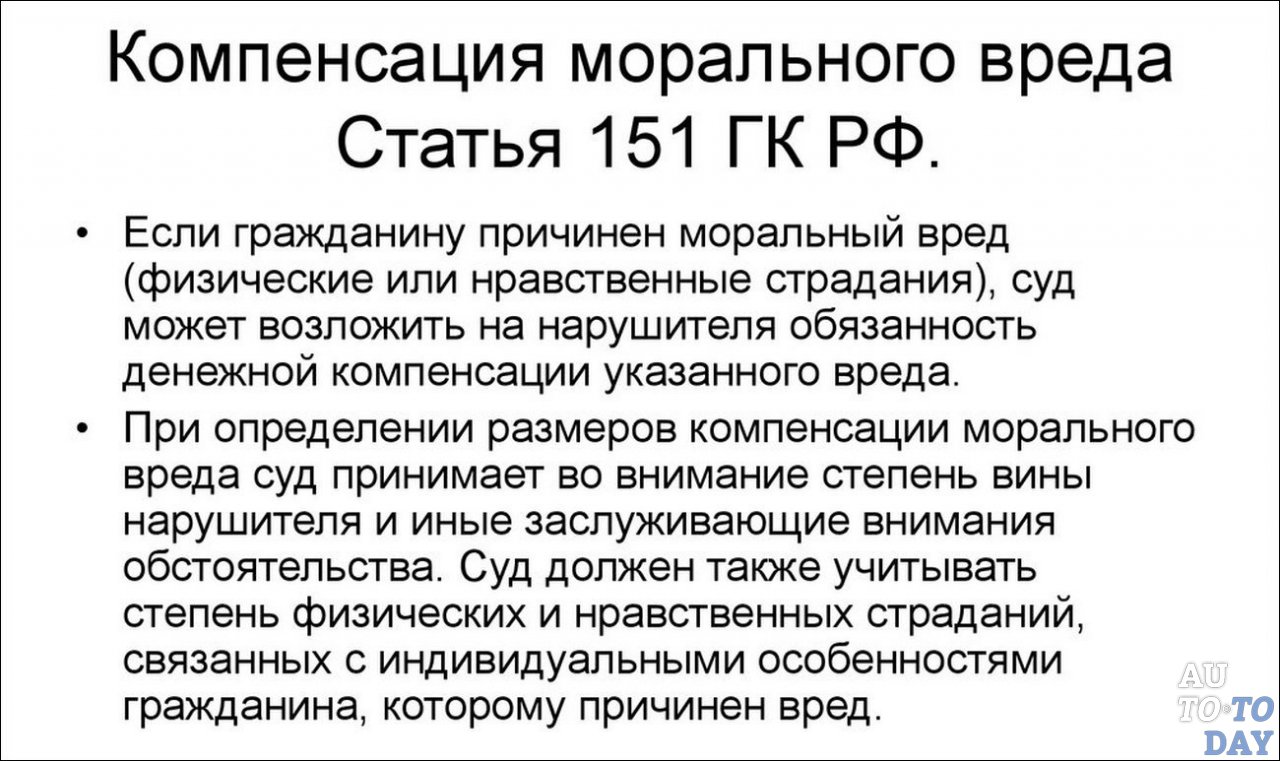 Современная школа мысли,
называется инклюзивным юридическим позитивизмом , поддерживает Социальный тезис,
а именно, что основные условия юридической действительности вытекают из социальных
факты, такие как социальные правила или условности, которые преобладают в той или иной
данное сообщество. Но, как утверждают инклюзивные юридические позитивисты,
действительность иногда зависит от морального содержания норм,
в зависимости от конкретных соглашений, которые преобладают в каком-либо
данное сообщество.Социальные условности, на основе которых мы
определить, что закон может, но не обязательно, содержать ссылку на моральное содержание
как условие законности (см., например, Waluchow 1994).
Современная школа мысли,
называется инклюзивным юридическим позитивизмом , поддерживает Социальный тезис,
а именно, что основные условия юридической действительности вытекают из социальных
факты, такие как социальные правила или условности, которые преобладают в той или иной
данное сообщество. Но, как утверждают инклюзивные юридические позитивисты,
действительность иногда зависит от морального содержания норм,
в зависимости от конкретных соглашений, которые преобладают в каком-либо
данное сообщество.Социальные условности, на основе которых мы
определить, что закон может, но не обязательно, содержать ссылку на моральное содержание
как условие законности (см., например, Waluchow 1994).
Традиция естественного права претерпела значительные изменения в
20-го века, главным образом потому, что его классическая, популярная версия столкнулась с
очевидное возражение по поводу его основного понимания: просто трудно
утверждают, что нравственно дурной закон не является законом. Идея, что закон должен быть принят,
как бы своего рода моральный фильтр для того, чтобы засчитывать судебные забастовки
большинство юристов так же несовместимы с юридическим миром, каким мы его знаем.Поэтому современные естествоиспытатели предлагают разные и
более тонкие интерпретации основных положений естественного права. За
например, Джон Финнис (1980) рассматривает естественное право (в его томистской версии) не как
ограничение юридической силы позитивных законов, но главным образом как
разъяснение идеала права в его наиболее полном или высшем смысле,
концентрируясь на том, как закон обязательно способствует общему
хорошо. Однако, как мы отмечали ранее, неясно,
Представление о необходимом нравственном содержании права расходится с основным
постулаты юридического позитивизма.Раз здесь идет дискуссия,
это метафизический о том, что существенно или необходимо для закона,
и о том, должны ли существенные черты права разъясняться в
телеологические термины или нет. Юридические позитивисты не склонны искать глубокие
телеологические трактовки права, в духе сформулированных Финнисом,
но нужно ли им отрицать такие метафизические проекты, это далеко не
чистый.
Идея, что закон должен быть принят,
как бы своего рода моральный фильтр для того, чтобы засчитывать судебные забастовки
большинство юристов так же несовместимы с юридическим миром, каким мы его знаем.Поэтому современные естествоиспытатели предлагают разные и
более тонкие интерпретации основных положений естественного права. За
например, Джон Финнис (1980) рассматривает естественное право (в его томистской версии) не как
ограничение юридической силы позитивных законов, но главным образом как
разъяснение идеала права в его наиболее полном или высшем смысле,
концентрируясь на том, как закон обязательно способствует общему
хорошо. Однако, как мы отмечали ранее, неясно,
Представление о необходимом нравственном содержании права расходится с основным
постулаты юридического позитивизма.Раз здесь идет дискуссия,
это метафизический о том, что существенно или необходимо для закона,
и о том, должны ли существенные черты права разъясняться в
телеологические термины или нет. Юридические позитивисты не склонны искать глубокие
телеологические трактовки права, в духе сформулированных Финнисом,
но нужно ли им отрицать такие метафизические проекты, это далеко не
чистый.
Идея о том, что условия юридической действительности, по крайней мере частично, Вопрос о моральном содержании или достоинствах норм сформулирован в утонченной манере правовой теории Рональда Дворкина.Дворкин не классический естественный юрист, однако, и он не утверждает, что нравственно приемлемое содержание является предпосылкой законности нормы. Его Основная идея состоит в том, что само различие между фактами и ценностями в правовой сфере, между тем, что есть закон, и тем, чем он должен быть, размытее, чем это было бы в юридическом позитивизме: право в частных случаях неизбежно зависит от морально-политических соображения о том, каким он должен быть. Оценочные суждения, о содержательный закон должен иметь или то, что он должен предписывать, частично определить, что такое закон на самом деле.
Правовая теория Дворкина не основана на общем отказе от
классическое различение фактической ценности, поскольку оно основано на определенном
концепция юридического обоснования. Эта концепция прошла через два основных
этапы. В 1970-х годах Дворкин (1977) утверждал, что ложность юридических
позитивизм заключается в том, что он не способен объяснить
важную роль, которую правовые принципы играют в праве. Юридический
позитивизм, Дворкин утверждал, что закон состоит из правил
Только.Однако это серьезная ошибка, так как помимо правил,
право частично определяется правовыми принципами. Различие между
правила и принципы логичны. Правила, поддерживаемые Дворкиным, применяются
по принципу «все или ничего». Если правило применяется к
обстоятельств, она определяет тот или иной правовой исход. Если это не так
применять, это просто не имеет отношения к результату. С другой стороны,
принципы не определяют результат, даже если они явно применимы к
соответствующие обстоятельства.Принципы предоставляют судьям юридическую
причина решить дело так или иначе, и, следовательно, они только
имеют размерность веса. То есть причины, указанные
принцип может быть относительно сильным или слабым, но они никогда не
«абсолютный».
Эта концепция прошла через два основных
этапы. В 1970-х годах Дворкин (1977) утверждал, что ложность юридических
позитивизм заключается в том, что он не способен объяснить
важную роль, которую правовые принципы играют в праве. Юридический
позитивизм, Дворкин утверждал, что закон состоит из правил
Только.Однако это серьезная ошибка, так как помимо правил,
право частично определяется правовыми принципами. Различие между
правила и принципы логичны. Правила, поддерживаемые Дворкиным, применяются
по принципу «все или ничего». Если правило применяется к
обстоятельств, она определяет тот или иной правовой исход. Если это не так
применять, это просто не имеет отношения к результату. С другой стороны,
принципы не определяют результат, даже если они явно применимы к
соответствующие обстоятельства.Принципы предоставляют судьям юридическую
причина решить дело так или иначе, и, следовательно, они только
имеют размерность веса. То есть причины, указанные
принцип может быть относительно сильным или слабым, но они никогда не
«абсолютный». Такие причины сами по себе не могут определять
результат, как это делают правила.
Такие причины сами по себе не могут определять
результат, как это делают правила.
Наиболее интересным и, с позитивистской точки зрения, наиболее
проблематичный аспект правовых принципов, тем не менее, состоит в их
моральное измерение. Согласно теории Дворкина, в отличие от юридического
правила, которые могут иметь или не иметь отношение к морали,
принципы по существу нравственны по своему содержанию.На самом деле это
частично моральное соображение, которое определяет, является ли юридический принцип
существует или нет. Это почему? Поскольку существует юридический принцип,
по Дворкину, если принцип вытекает из лучших нравственных и
политическая интерпретация прошлых судебных и законодательных решений в
соответствующий домен. Иными словами, правовые принципы занимают
промежуточное пространство между правовыми нормами и моральными принципами. Юридический
правила устанавливаются признанными институтами и их действительность
проистекает из их установленного источника.Моральные принципы – это то, что они есть
в силу их содержания, и их действительность является чисто содержательной
зависимый.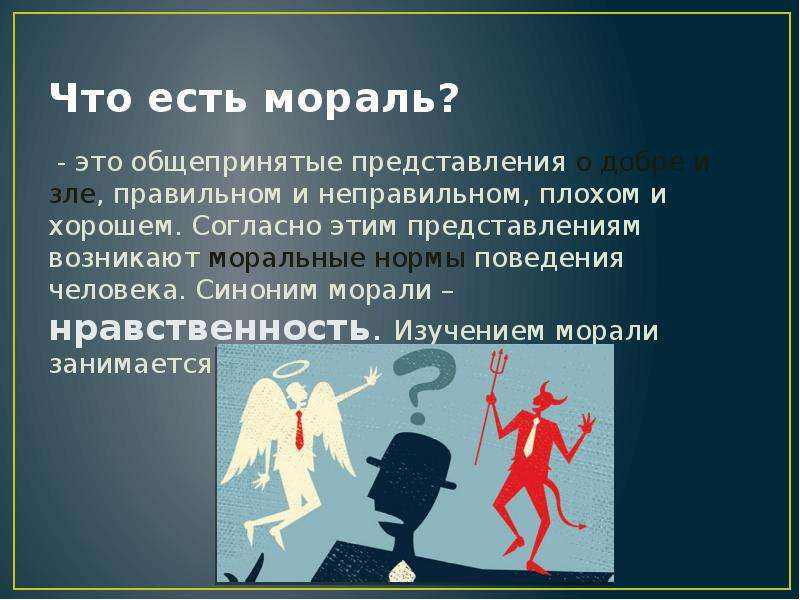 С другой стороны, правовые принципы обретают свою силу.
из комбинация основанных на источнике и на основе содержания
соображения. Как выразился Дворкин в самых общих чертах:
«Согласно праву как целостности, положения права истинны, если
они фигурируют или следуют из принципов справедливости, честности и
процессуальные надлежащие правовые процедуры, обеспечивающие наилучшие конструктивные
интерпретация юридической практики сообщества» (Дворкин
1986, 225).Таким образом, действительность правового принципа вытекает из
сочетание фактов и моральных соображений. Факты касаются
прошлые юридические решения, которые имели место в соответствующей области,
а соображения морали и политики касаются способов
что эти прошлые решения лучше всего объясняются правильным
моральные принципы.
С другой стороны, правовые принципы обретают свою силу.
из комбинация основанных на источнике и на основе содержания
соображения. Как выразился Дворкин в самых общих чертах:
«Согласно праву как целостности, положения права истинны, если
они фигурируют или следуют из принципов справедливости, честности и
процессуальные надлежащие правовые процедуры, обеспечивающие наилучшие конструктивные
интерпретация юридической практики сообщества» (Дворкин
1986, 225).Таким образом, действительность правового принципа вытекает из
сочетание фактов и моральных соображений. Факты касаются
прошлые юридические решения, которые имели место в соответствующей области,
а соображения морали и политики касаются способов
что эти прошлые решения лучше всего объясняются правильным
моральные принципы.
Излишне говорить, что если такая трактовка правовых принципов верна,
Тезис о разделении больше не может поддерживаться. Но многие юридические
философы сомневаются, что существуют правовые принципы, подобные Дворкину. предусмотрено.Существует альтернативный, более естественный способ учета
различие между нормами и принципами в праве: соответствующие
разница касается уровня общности или неопределенности
норма-акт, предусмотренный соответствующей правовой нормой. Правовые нормы могут быть
более или менее общее или расплывчатое в их определении нормы-акта
предписаны правилом, и чем они более общие или расплывчатые, тем
более того, они, как правило, имеют те квазилогические черты, которые атрибуты Дворкина
к принципам. Что еще более важно, обратите внимание, что если вы сделаете юридический
действительность норм, таких как правовые принципы, зависит от моральных аргументов,
вы допускаете возможность того, что все юридическое сообщество может получить
его законы неверны.Любая моральная ошибка в рассуждениях, ведущая к юридическому
принцип может сделать вывод о принципе несостоятельным, и
Таким образом, сам принцип не имеет юридической силы. Так как нечего
чтобы судьи и другие юридические лица не совершали моральных ошибок,
ничто не препятствует результату, в результате которого все юридическое сообщество и
долгое время неправильно понимает свои законы (Marmor 2011, глава 4).
предусмотрено.Существует альтернативный, более естественный способ учета
различие между нормами и принципами в праве: соответствующие
разница касается уровня общности или неопределенности
норма-акт, предусмотренный соответствующей правовой нормой. Правовые нормы могут быть
более или менее общее или расплывчатое в их определении нормы-акта
предписаны правилом, и чем они более общие или расплывчатые, тем
более того, они, как правило, имеют те квазилогические черты, которые атрибуты Дворкина
к принципам. Что еще более важно, обратите внимание, что если вы сделаете юридический
действительность норм, таких как правовые принципы, зависит от моральных аргументов,
вы допускаете возможность того, что все юридическое сообщество может получить
его законы неверны.Любая моральная ошибка в рассуждениях, ведущая к юридическому
принцип может сделать вывод о принципе несостоятельным, и
Таким образом, сам принцип не имеет юридической силы. Так как нечего
чтобы судьи и другие юридические лица не совершали моральных ошибок,
ничто не препятствует результату, в результате которого все юридическое сообщество и
долгое время неправильно понимает свои законы (Marmor 2011, глава 4). Возможно
Дворкин не счел бы это проблематичным, но другие могли бы; в
мысль о том, что все юридическое сообщество может систематически ошибаться
о своих собственных законах может поразить теоретиков права настолько глубоко
проблемный.
Возможно
Дворкин не счел бы это проблематичным, но другие могли бы; в
мысль о том, что все юридическое сообщество может систематически ошибаться
о своих собственных законах может поразить теоретиков права настолько глубоко
проблемный.
В 1980-х годах Дворкин радикализировал свои взгляды на эти вопросы.
стремясь обосновать свою антипозитивистскую правовую теорию общей теорией
толкования и подчеркивая глубокую интерпретативную
природа. Несмотря на то, что интерпретационная теория права Дворкина
чрезвычайно изощренный и сложный, суть его аргумента от
интерпретацию можно резюмировать довольно просто. Главный
аргумент состоит из двух основных посылок. Первый тезис утверждает, что
определение того, что требует закон в каждом конкретном случае
обязательно включает интерпретативное рассуждение.Любое заявление о
форма «Согласно закону в \(S\), \(x\) имеет право/обязанность
т. д., к \(у\)» является выводом некоторого
интерпретация или др. Теперь, согласно второму постулату,
интерпретация всегда связана с оценочными соображениями.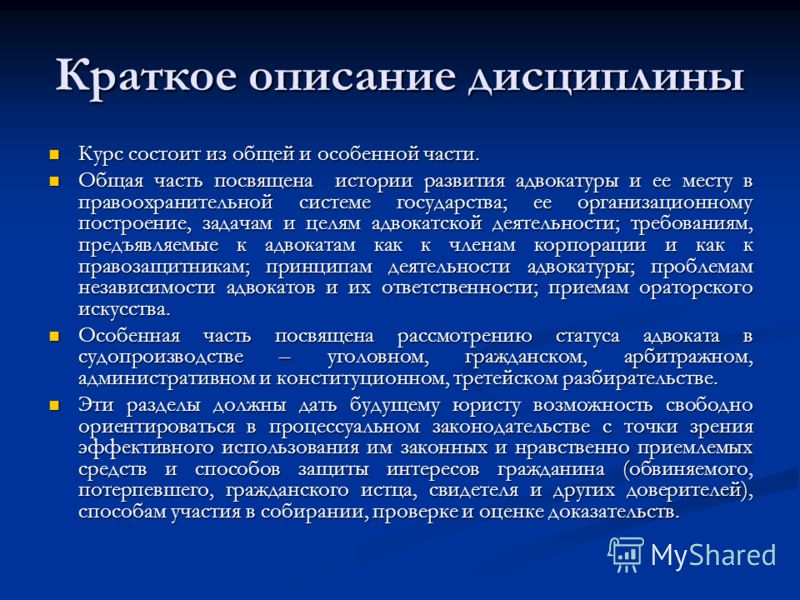 Более
точно, возможно, интерпретация не является ни чисто вопросом
установление фактов, а также не вопрос оценочного суждения в
se , но неразрывная смесь того и другого. Совершенно очевидно, что тот, кто
принимает оба эти тезиса, должен заключить, что тезис о разделении
в корне неверный.Если Дворкин прав в отношении обоих тезисов,
конечно следует, что определение того, что требует закон всегда предполагает оценочные соображения.
Более
точно, возможно, интерпретация не является ни чисто вопросом
установление фактов, а также не вопрос оценочного суждения в
se , но неразрывная смесь того и другого. Совершенно очевидно, что тот, кто
принимает оба эти тезиса, должен заключить, что тезис о разделении
в корне неверный.Если Дворкин прав в отношении обоих тезисов,
конечно следует, что определение того, что требует закон всегда предполагает оценочные соображения.
Примечательно, что первая посылка общего аргумента Дворкина весьма
спорный. Некоторые философы-правоведы утверждали, что юридическое обоснование
не так тщательно интерпретирует, как предполагает Дворкин. интерпретация,
согласно этой точке зрения, давно поддерживаемой H.L.A. Харт (1961, глава
7), является исключением из стандартного понимания языка и
общение, становится необходимым только тогда, когда закон для некоторых
причина, непонятно.Однако в большинстве стандартных случаев закон может
просто понимать и применять без посредничества
интерпретация (Marmor 2011, глава 6).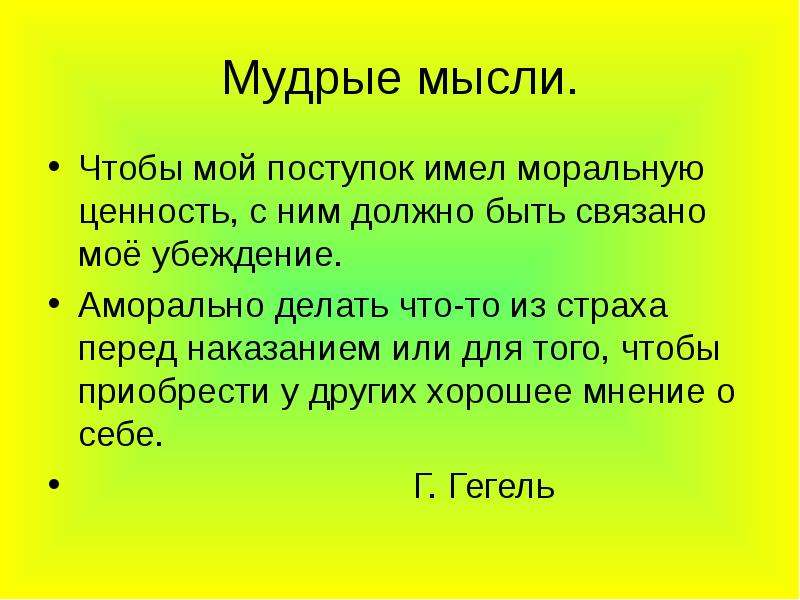
Юридическая теория Дворкина разделяет некоторые идеи с инклюзивной теорией.
Вариант юридического позитивизма. Обратите внимание, однако, что, хотя оба Дворкина
инклюзивные юридические позитивисты разделяют мнение о том, что мораль и правовые
действительность тесно связаны, они различаются на основании этого
отношение. Дворкин утверждает, что зависимость юридической силы
моральных соображений является существенным свойством права, которое
вытекает из глубоко интерпретативной природы права.включительно
позитивизм же утверждает, что такая зависимость
юридическая действительность по моральным соображениям является случайным вопросом; оно делает
не вытекают из природы права или юридического обоснования как такового.
Инклюзивные позитивисты принимают социальный тезис; они утверждают, что мораль
соображения влияют на юридическую действительность только в тех случаях, когда это
диктуется социальными правилами или соглашениями, которые преобладают в той или иной
данной правовой системы. Актуальность морали определяется в любом
данная правовая система случайным содержанием этого общества
соглашения.В противоположность обоим этим взглядам, традиционным, или как они
теперь называется исключительный правовой позитивизм утверждает, что норма
юридическая действительность никогда не зависит от ее морального содержания. Юридическая сила,
согласно этой точке зрения, полностью зависит от условно
признанные фактические источники права.
Актуальность морали определяется в любом
данная правовая система случайным содержанием этого общества
соглашения.В противоположность обоим этим взглядам, традиционным, или как они
теперь называется исключительный правовой позитивизм утверждает, что норма
юридическая действительность никогда не зависит от ее морального содержания. Юридическая сила,
согласно этой точке зрения, полностью зависит от условно
признанные фактические источники права.
Возможно, стоит отметить, что правовые теории, утверждающие, что
Юридическая действительность частично зависит от моральных соображений.
определенный взгляд на природу морали.А именно, они должны иметь
объективная позиция по отношению к природе моральных ценностей. В противном случае,
если моральные ценности не объективны и законность зависит от морали,
законность также будет субъективной, что создаст серьезные проблемы для
вопрос о том, как определить, что такое закон. Некоторые юридические теории,
однако настаивают на субъективности моральных суждений, таким образом
принимая последующие скептические выводы о природе
закон. Согласно этим скептическим теориям, право действительно глубоко
зависит от морали, но, поскольку эти теоретики полагают, что мораль
полностью субъективен, он только демонстрирует, как закон также
глубоко субъективный, всегда готовый к захвату, так сказать.Этот скептический
подход, модный в так называемой постмодернистской литературе, принципиально
зависит от субъективистской теории ценностей, которая редко формулируется
в этой литературе любым изощренным способом.
Согласно этим скептическим теориям, право действительно глубоко
зависит от морали, но, поскольку эти теоретики полагают, что мораль
полностью субъективен, он только демонстрирует, как закон также
глубоко субъективный, всегда готовый к захвату, так сказать.Этот скептический
подход, модный в так называемой постмодернистской литературе, принципиально
зависит от субъективистской теории ценностей, которая редко формулируется
в этой литературе любым изощренным способом.
1.2 Нормативность закона
На протяжении всей истории человечества закон был известен как принудительное
учреждение, навязывающее свои практические требования своим подданным посредством
угроз и насилия. Эта бросающаяся в глаза черта закона делала его очень
заманчиво для некоторых философов предположить, что нормативность права
находится в ее принудительном аспекте.Даже в рамках юридического позитивизма
традиции, однако, принудительный аспект закона породил
ожесточенные споры. Ранние юридические позитивисты, такие как Бентам и
Остин утверждал, что принуждение является существенной чертой
права, что отличает его от других нормативных областей. Юридические позитивисты
в 20-м веке склонны отрицать это, утверждая, что принуждение
не имеет существенного значения для закона и фактически не имеет решающего значения для выполнения
его функции в обществе. Прежде чем мы раскроем различные проблемы, связанные с
в этом противоречии, возможно, стоит отметить, что дебаты о
Принудительный аспект закона — хороший пример дебатов в юриспруденции.
которые фокусируются на том, что может быть существенным или необходимым свойством права,
независимо от его конкретных проявлений в том или ином правовом
система.Как понимать эти утверждения о сущности права, и
вопрос о том, относятся ли эти утверждения к метафизике или к чему-то еще
остальное, возможно, о морали, будет рассмотрено в разделе 2.1.
Юридические позитивисты
в 20-м веке склонны отрицать это, утверждая, что принуждение
не имеет существенного значения для закона и фактически не имеет решающего значения для выполнения
его функции в обществе. Прежде чем мы раскроем различные проблемы, связанные с
в этом противоречии, возможно, стоит отметить, что дебаты о
Принудительный аспект закона — хороший пример дебатов в юриспруденции.
которые фокусируются на том, что может быть существенным или необходимым свойством права,
независимо от его конкретных проявлений в том или ином правовом
система.Как понимать эти утверждения о сущности права, и
вопрос о том, относятся ли эти утверждения к метафизике или к чему-то еще
остальное, возможно, о морали, будет рассмотрено в разделе 2.1.
Возвращаясь к принудительному аспекту закона, есть несколько вопросов.
запутались здесь, и мы должны тщательно разделить их. Джон Остин
утверждал, что каждая правовая норма как таковая должна
содержат угрозу, подкрепленную санкцией. При этом участвуют как минимум два
отдельные утверждения: в каком-то смысле его можно понимать как тезис о
понятие права, утверждая, что то, что мы называем «правом», может
только те нормы, которые подкреплены санкциями политического
государь. Во втором, хотя и не менее проблематичном смысле, интимное
связь между законом и угрозой санкций является тезисом
о нормативности права. Это редукционистский тезис о законе.
нормативный характер, утверждая, что нормативность права состоит
в способности испытуемых предсказывать шансы понести наказание
или зло и их предполагаемое желание избежать его.
Во втором, хотя и не менее проблематичном смысле, интимное
связь между законом и угрозой санкций является тезисом
о нормативности права. Это редукционистский тезис о законе.
нормативный характер, утверждая, что нормативность права состоит
в способности испытуемых предсказывать шансы понести наказание
или зло и их предполагаемое желание избежать его.
Помимо этого конкретного противоречия, есть еще вопрос об относительной важности санкций для способность права выполнять свои социальные функции.Ганс Кельсен, например, утверждал, что монополизация насилия в общества, а также способность закона навязывать свои требования насильственными средствами, важнейшая из функций права в обществе. Двадцатое столетие юридические позитивисты, такие как H.L.A. Харт и Джозеф Раз отрицают это, утверждая, что принудительный аспект закона гораздо более маргинален, чем предполагали их предшественники. И снова спор здесь на самом деле двоякое: является ли принуждение существенным для того, что делает закон? И даже если это не считается существенным, насколько это важно по сравнению с с другими функциями, которые закон выполняет в нашей жизни?
Редукционистский подход Остина к нормативности права.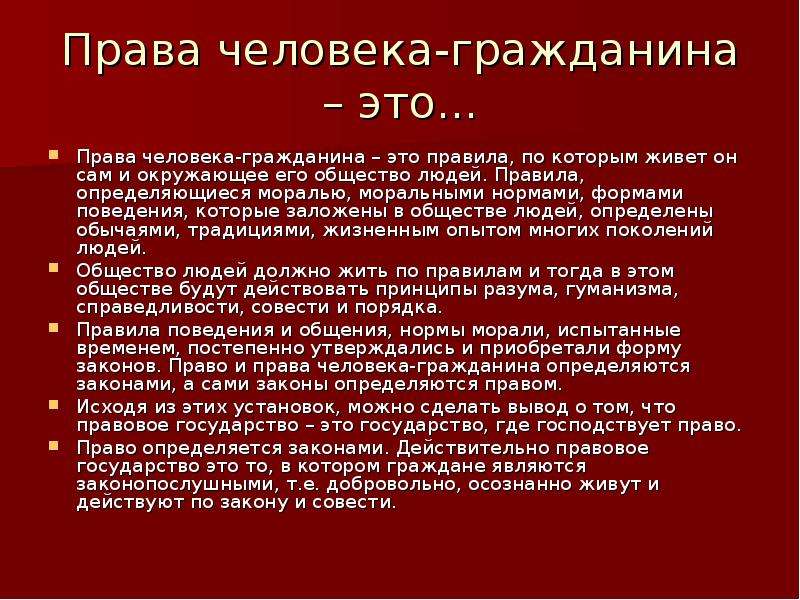 утверждая, что нормативная сторона права просто состоит в
желание субъектов избежать санкций широко обсуждалось,
и подвергся резкой критике со стороны Х.Л. А. Харт. фундаментальный
возражение против редукционистского подхода Остина к закону.
нормативность состоит, по его собственному мнению, в том, «что предсказательная
интерпретация затемняет тот факт, что там, где существуют правила, отклонения
из них являются не просто основанием для предсказания того, что враждебные реакции
последует…. но также считаются причиной или
обоснование такой реакции и применения санкций»
(Харт 1961, 82). Этот акцент на мотивирующей функции правил
безусловно, правильно, но, возможно, недостаточно.Сторонники
прогнозный счет может утверждать, что это только вызывает дальнейший вопрос
из , почему людей должны рассматривать нормы права как причины или
обоснования действий. Если это например только поскольку закон является эффективным санкционирующим органом, то
прогнозная модель нормативности права может оказаться верной
после всего.
утверждая, что нормативная сторона права просто состоит в
желание субъектов избежать санкций широко обсуждалось,
и подвергся резкой критике со стороны Х.Л. А. Харт. фундаментальный
возражение против редукционистского подхода Остина к закону.
нормативность состоит, по его собственному мнению, в том, «что предсказательная
интерпретация затемняет тот факт, что там, где существуют правила, отклонения
из них являются не просто основанием для предсказания того, что враждебные реакции
последует…. но также считаются причиной или
обоснование такой реакции и применения санкций»
(Харт 1961, 82). Этот акцент на мотивирующей функции правил
безусловно, правильно, но, возможно, недостаточно.Сторонники
прогнозный счет может утверждать, что это только вызывает дальнейший вопрос
из , почему людей должны рассматривать нормы права как причины или
обоснования действий. Если это например только поскольку закон является эффективным санкционирующим органом, то
прогнозная модель нормативности права может оказаться верной
после всего. Другими словами, фундаментальное возражение Харта против
предсказательная модель на самом деле является результатом его видения основных
функции права в обществе, удерживая, вопреки Остину и Кельзену, что
эти функции не связаны исключительно со способностью закона
вводить санкции.
Другими словами, фундаментальное возражение Харта против
предсказательная модель на самом деле является результатом его видения основных
функции права в обществе, удерживая, вопреки Остину и Кельзену, что
эти функции не связаны исключительно со способностью закона
вводить санкции.
Однако спорно, что функции права в нашей культуре
более тесно связан с его принудительным аспектом, чем, по-видимому, у Харта.
предполагается. Современное использование «теории игр» в юриспруденции имеет тенденцию
показать, что обоснование большого разнообразия правовых механизмов может
лучше всего объясняется функцией права в решении проблем
оппортунизма, как и так называемые ситуации дилеммы заключенного. В этих
случаях основная роль закона действительно заключается в обеспечении принуждения
стимулы для взаимной выгоды всех заинтересованных сторон.Будь таким, как
возможно, нам, вероятно, следует воздержаться от одобрения идей Остина или Кельзена.
положение о том, что единственная функция права в обществе по существу связана с его
принудительные аспекты. Решение повторяющихся и множественных координационных задач,
установление стандартов желательного поведения, провозглашение символических
выражение общественных ценностей, разрешение споров о фактах и
таковы важные функции, которые закон выполняет в нашем обществе, и
они имеют очень мало общего с принудительным аспектом закона и его
санкционирующие функции.
Решение повторяющихся и множественных координационных задач,
установление стандартов желательного поведения, провозглашение символических
выражение общественных ценностей, разрешение споров о фактах и
таковы важные функции, которые закон выполняет в нашем обществе, и
они имеют очень мало общего с принудительным аспектом закона и его
санкционирующие функции.
В какой степени закон может на самом деле направлять поведение, предоставляя
предметы с причинами для действия были допрошены очень
влиятельная группа ученых-правоведов первой половины
20 -й -й век, названный школой правового реализма. американский
Юридические реалисты утверждали, что наша способность предсказывать результаты
судебные дела на основе норм права весьма ограничены. в
более сложные дела, которые, как правило, рассматриваются в апелляционной инстанции.
суды, правовые нормы сами по себе радикально неопределенны в отношении
исход дел.Юридические реалисты считали, что юристы, которые
интересует прогнозный вопрос о том, что суды будут
на самом деле решать в трудных случаях нужно заниматься социологическими и
психологические исследования, стремясь разработать теоретические инструменты, которые
позволит нам предсказать юридические последствия. Таким образом, юридический реализм был
главным образом попытка ввести социальные науки в область
юриспруденция в целях прогнозирования. В какой мере это научное
Успешный проект вызывает споры. Как бы то ни было, Юридический
Реализм уделял очень мало внимания вопросу о нормативности
права, то есть к вопросу о том, как закон направляет поведение в
те случаи, в которых оно представляется достаточно определенным.
Таким образом, юридический реализм был
главным образом попытка ввести социальные науки в область
юриспруденция в целях прогнозирования. В какой мере это научное
Успешный проект вызывает споры. Как бы то ни было, Юридический
Реализм уделял очень мало внимания вопросу о нормативности
права, то есть к вопросу о том, как закон направляет поведение в
те случаи, в которых оно представляется достаточно определенным.
Гораздо более многообещающий подход к нормативности права обнаруживается в
Теория авторитета Джозефа Раза, которая также показывает, как такая теория
о нормативности права влечет за собой важные выводы в отношении
к условиям юридической силы (Раз 1994). Основное понимание
Аргумент Раза состоит в том, что закон является авторитетным социальным институтом.
Закон, утверждает Раз, является де-факто авторитетом. Тем не менее, это
Также важно для права то, что оно должно считаться правомерным
орган власти.Любая конкретная правовая система может, конечно, потерпеть неудачу в своей
выполнение этого требования. Но право – это такой институт, который
обязательно претендует на то, чтобы быть законной властью.
Но право – это такой институт, который
обязательно претендует на то, чтобы быть законной властью.
По Разу, существенная роль властей в нашей практической
рассуждение должно быть посредником между предполагаемыми субъектами власти
и правильные причины которые относятся к ним в соответствующих
обстоятельства. Власть легитимна тогда и только тогда, когда она помогает
предполагаемые субъекты лучше подчиняются правильным причинам, относящимся к
их действия — т.д., если они с большей вероятностью будут действовать в соответствии
по этим причинам, следуя официальному решению, чем они
было бы, если бы попытались разобраться и воздействовать на причины напрямую
(без посреднического решения). Например, может быть много
причины, которые имеют отношение к вопросу о том, как быстро ехать на конкретном
дорога — количество пешеходного движения, предстоящие повороты на
дорога и т. д., но водители могут лучше соблюдать баланс
по этим причинам, соблюдая законное ограничение скорости, чем если бы они пытались
выяснить все компромиссы в данный момент. Законность
законное ограничение скорости, таким образом, будет получено из того, как оно помогает
люди, действующие в лучшем соответствии с балансом права
причины.
Законность
законное ограничение скорости, таким образом, будет получено из того, как оно помогает
люди, действующие в лучшем соответствии с балансом права
причины.
Из этого следует, что для того, чтобы что-то могло претендовать на правомерность
власти, она должна быть из такой вещи, способной требовать
именно оно способно выполнять такую посредническую роль. Какие виды
вещи могут претендовать на законную власть? Таких как минимум два
черты, необходимые для полномочий: во-первых, чтобы что-то было
может претендовать на законную власть, должно быть так, что его
директивы идентифицируются как авторитетные директивы,
без необходимости полагаться на те же причины, которые
авторитетная директива заменяет.Если это условие не выполняется, а именно
если невозможно идентифицировать авторитетную директиву как таковую
не полагаясь на те же причины, на которые власти должны были полагаться
д., то власть не могла выполнять свою существенную, посредническую роль.
Короче говоря, это не могло иметь практического значения, для которого оно предназначено.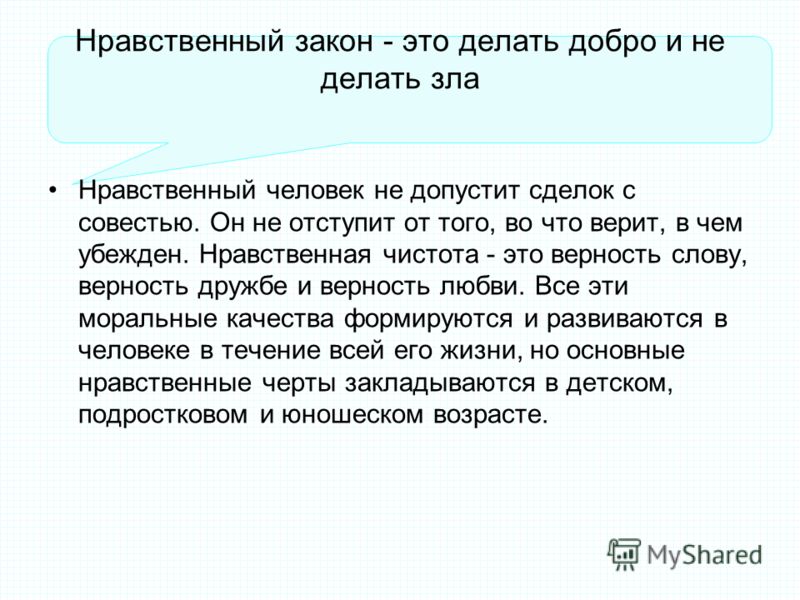 сделать. Обратите внимание, что этот аргумент не касается эффективности
органы власти. Дело не в том, что если авторитетные директивы не могут
быть признаны таковыми, органы власти не могли функционировать эффективно.То
аргумент основан на обосновании авторитетов в рамках нашей практической
рассуждения. Власти существуют, чтобы иметь практическое значение, и
они не могли бы сделать такое различие, если бы директива властей
может быть признан таковым без обращения к причинам, по которым он существует
решать. Иными словами, бессмысленно иметь
авторитетная директива, если для того, чтобы выяснить, что это за директива,
вы должны заниматься теми же рассуждениями, что и полагаться на директиву
предполагается заменить.Во-вторых, на что-то иметь возможность претендовать
законной власти, она должна быть способна формировать мнение о том, как
его субъекты должны вести себя в отличие от собственных рассуждений субъектов
о причинах своих действий; авторитет требует некоторого авторства.
сделать. Обратите внимание, что этот аргумент не касается эффективности
органы власти. Дело не в том, что если авторитетные директивы не могут
быть признаны таковыми, органы власти не могли функционировать эффективно.То
аргумент основан на обосновании авторитетов в рамках нашей практической
рассуждения. Власти существуют, чтобы иметь практическое значение, и
они не могли бы сделать такое различие, если бы директива властей
может быть признан таковым без обращения к причинам, по которым он существует
решать. Иными словами, бессмысленно иметь
авторитетная директива, если для того, чтобы выяснить, что это за директива,
вы должны заниматься теми же рассуждениями, что и полагаться на директиву
предполагается заменить.Во-вторых, на что-то иметь возможность претендовать
законной власти, она должна быть способна формировать мнение о том, как
его субъекты должны вести себя в отличие от собственных рассуждений субъектов
о причинах своих действий; авторитет требует некоторого авторства.
Концепция юридической власти Раза обеспечивает очень сильную поддержку
исключительный юридический позитивизм, поскольку он требует, чтобы право, qua авторитетная резолюция, идентифицируемая сама по себе
терминах, то есть без необходимости полагаться на те же самые соображения
что закон должен решить. Следовательно, норма имеет юридическую силу.
(т. е. авторитетным) только в том случае, если его действительность не вытекает из моральных или
другие оценочные соображения, которые закон призван заменить.
Примечательно, что теория Раза бросает вызов как антипозитивистскому
теории и инклюзивной версии юридического позитивизма. Этот вызов,
и споры, которые она породила, составляют одну из главных тем
обсуждаются в современной общей юриспруденции.
Следовательно, норма имеет юридическую силу.
(т. е. авторитетным) только в том случае, если его действительность не вытекает из моральных или
другие оценочные соображения, которые закон призван заменить.
Примечательно, что теория Раза бросает вызов как антипозитивистскому
теории и инклюзивной версии юридического позитивизма. Этот вызов,
и споры, которые она породила, составляют одну из главных тем
обсуждаются в современной общей юриспруденции.
Однако объяснение обоснования юридической власти — не единственная
компонент теории о нормативности права.Если мы будем держать
юридический позитивистский тезис о том, что право по существу основано на социальном
условности, здесь возникает еще один важный вопрос: как
традиционная практика порождает основания для действий и, в
частности, к обязательствам? Некоторые философы-правоведы утверждали, что
конвенциональные нормы сами по себе не могут порождать обязательства. В виде
Лесли Грин заметил, что «мнение Харта о том, что фундаментальное
правила [признания] являются «простыми соглашениями» и продолжают
неловко относиться к любому понятию долга», и этот Грин
вызывает беспокойство, поскольку правила распознавания указывают на
«источники, которые судьи юридически обязаны применять»
(Грин 1996, 1697). Дебаты здесь отчасти касаются общепринятого
характер правил признания, а частично о способах, которыми
условности могут фигурировать в наших основаниях для действий. Согласно одному
влиятельная теория, вдохновленная общепринятыми правилами Дэвида Льюиса (1969)
появляются как решения крупномасштабной и периодической координации
проблемы. Если правила признания действительно таковы,
типа координации, относительно легко объяснить, как они могут дать
возникают обязательства. Соглашения о координации будут обязательными, если
субъекты норм обязаны решить проблему согласования
что изначально привело к возникновению соответствующих
соглашение.Однако сомнительно, чтобы конвенции,
основы права имеют сочинительный характер. В определенных отношениях
закон может быть больше похож на структурированную игру или художественный жанр, который
на самом деле конституируются социальными условностями. Такой учредительный
соглашения не могут быть объяснены как решения некоторых ранее существовавших
повторяющаяся проблема координации.
Дебаты здесь отчасти касаются общепринятого
характер правил признания, а частично о способах, которыми
условности могут фигурировать в наших основаниях для действий. Согласно одному
влиятельная теория, вдохновленная общепринятыми правилами Дэвида Льюиса (1969)
появляются как решения крупномасштабной и периодической координации
проблемы. Если правила признания действительно таковы,
типа координации, относительно легко объяснить, как они могут дать
возникают обязательства. Соглашения о координации будут обязательными, если
субъекты норм обязаны решить проблему согласования
что изначально привело к возникновению соответствующих
соглашение.Однако сомнительно, чтобы конвенции,
основы права имеют сочинительный характер. В определенных отношениях
закон может быть больше похож на структурированную игру или художественный жанр, который
на самом деле конституируются социальными условностями. Такой учредительный
соглашения не могут быть объяснены как решения некоторых ранее существовавших
повторяющаяся проблема координации. Традиционные правила, составляющие
игра в шахматы, например, не решает координацию
Проблема между потенциальными игроками. Предшественник игры в шахматы,
не было особой проблемы координации, которую нужно было решить.То
общепринятые правила шахмат конституируют саму игру как своего рода
социальная деятельность, которую люди сочли бы полезной для себя.
учредительные конвенции отчасти составляют ценности, присущие
эмерджентная социальная практика. Однако такие значения существуют только для
тех, кто хочет их увидеть. Учредительные конвенции сами по себе
не могут обосновывать обязательство заниматься той практикой, которую они
составляют.
Традиционные правила, составляющие
игра в шахматы, например, не решает координацию
Проблема между потенциальными игроками. Предшественник игры в шахматы,
не было особой проблемы координации, которую нужно было решить.То
общепринятые правила шахмат конституируют саму игру как своего рода
социальная деятельность, которую люди сочли бы полезной для себя.
учредительные конвенции отчасти составляют ценности, присущие
эмерджентная социальная практика. Однако такие значения существуют только для
тех, кто хочет их увидеть. Учредительные конвенции сами по себе
не могут обосновывать обязательство заниматься той практикой, которую они
составляют.
С моральной точки зрения правила признания сами по себе
не могут рассматриваться как источники обязанности соблюдать закон.Ли
судьи или кто-либо другой должны или не должны соблюдать правила
признание правовой системы, в конечном счете является моральным вопросом, который может
разрешаться только нравственными доводами (относительно извечного вопроса о
политическое обязательство).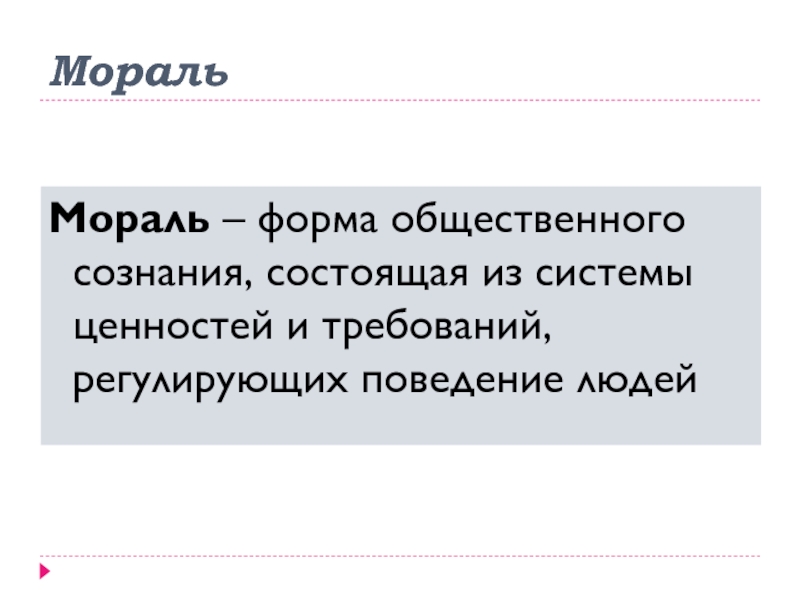 И это в более общем плане так: существование
социальная практика сама по себе никому не дает
обязанность заниматься практикой. Только правила признания
определить, что такое практика, и они ничего не могут сказать по этому вопросу
о том, следует или не следует заниматься этим.Но, конечно, однажды
человек занимается практикой, играя роль судьи или некоего
другое юридическое должностное лицо как бы есть юридических обязательств
определяются правилами игры. Другими словами, нет ничего
особенный в идее юридического обязательства следовать правилам
признания. Судья в футбольном матче в равной степени обязан
соблюдать правила его игры, и тот факт, что игра
конвенциональный не представляет никакой трудности из этого, скажем,
точка зрения «внутреннего игрока».Но опять же,
учредительные правила футбола не могут решить ни для кого вопрос
должны ли они играть в футбол или нет. Аналогично, правила
признание не может быть признано судьей или кем-либо еще за это
важно, должны ли они играть по правилам закона или нет.
И это в более общем плане так: существование
социальная практика сама по себе никому не дает
обязанность заниматься практикой. Только правила признания
определить, что такое практика, и они ничего не могут сказать по этому вопросу
о том, следует или не следует заниматься этим.Но, конечно, однажды
человек занимается практикой, играя роль судьи или некоего
другое юридическое должностное лицо как бы есть юридических обязательств
определяются правилами игры. Другими словами, нет ничего
особенный в идее юридического обязательства следовать правилам
признания. Судья в футбольном матче в равной степени обязан
соблюдать правила его игры, и тот факт, что игра
конвенциональный не представляет никакой трудности из этого, скажем,
точка зрения «внутреннего игрока».Но опять же,
учредительные правила футбола не могут решить ни для кого вопрос
должны ли они играть в футбол или нет. Аналогично, правила
признание не может быть признано судьей или кем-либо еще за это
важно, должны ли они играть по правилам закона или нет.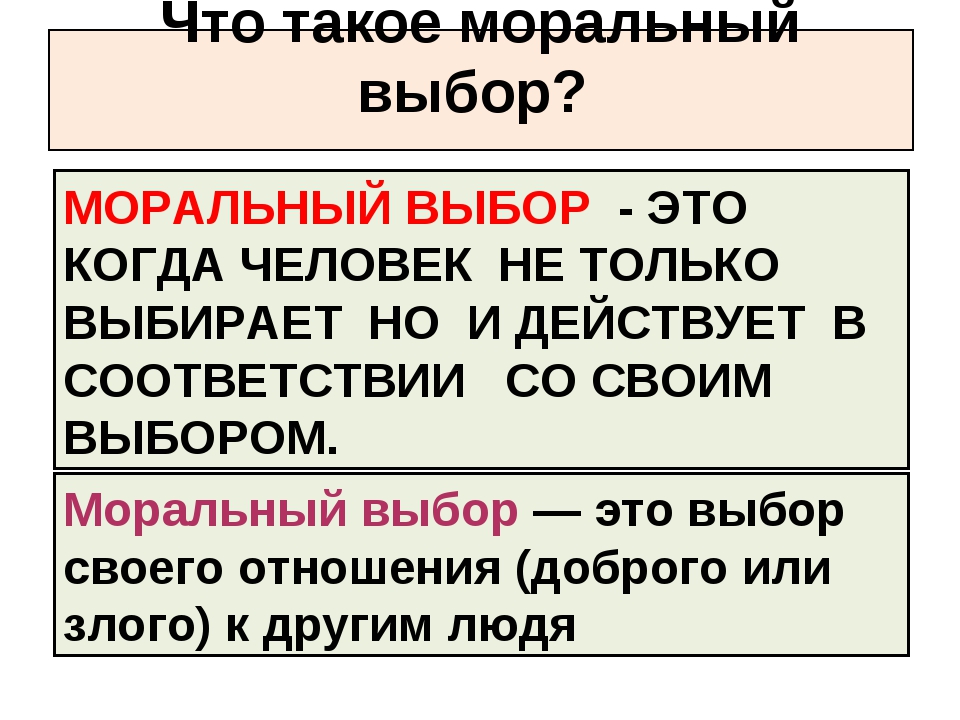 Они только
расскажи нам, что закон есть . Однако, в отличие от шахмат или футбола,
Закон вполне может быть своего рода игрой, в которую люди обязаны играть,
как было. Но если есть такое обязательство, оно должно вытекать из
внешних, нравственных, соображений, т. е. из общего нравственного
обязанность подчиняться закону.Сложный вопрос о том, существует ли
такое общее обязательство подчиняться закону, и зависит ли оно от
некоторые особенности соответствующей правовой системы, подробно обсуждается
в литературе о политических обязательствах. Полная теория о
нормативность права должна охватывать и эти моральные вопросы. (См.
записи на
политическое обязательство
и
правовое обязательство.)
Они только
расскажи нам, что закон есть . Однако, в отличие от шахмат или футбола,
Закон вполне может быть своего рода игрой, в которую люди обязаны играть,
как было. Но если есть такое обязательство, оно должно вытекать из
внешних, нравственных, соображений, т. е. из общего нравственного
обязанность подчиняться закону.Сложный вопрос о том, существует ли
такое общее обязательство подчиняться закону, и зависит ли оно от
некоторые особенности соответствующей правовой системы, подробно обсуждается
в литературе о политических обязательствах. Полная теория о
нормативность права должна охватывать и эти моральные вопросы. (См.
записи на
политическое обязательство
и
правовое обязательство.)
Однако в последнее время ряд философов начали
подвергнуть сомнению идею о том, что в нормативности есть что-то уникальное.
закон, предлагая нам посмотреть, как законы могут повлиять на наши причины для действий
способами, которые не имеют тесной связи с природой права (Гринберг
2014, Енох 2011, Мармор 2016 [2018]). Некоторые из этих взглядов (например, Енох,
Мармор) призваны показать, что существуют разные способы
наличие различных норм влияет на мотивы действий людей,
присутствует в законе, как и везде, не отрицая того, что закон часто делает
разница; эти взгляды только отрицают, что есть что-то уникальное в
способ, которым право меняет мотивы действий своих субъектов по сравнению с
другие виды нормативных требований. Другие оспаривают нормативность закона с
противоположный угол (Гринберг 2014, Хершовиц 2015), утверждая, что
Единственная сторона права, имеющая нормативное значение, — моральная
разница, которую он вносит в причины действий людей.
Некоторые из этих взглядов (например, Енох,
Мармор) призваны показать, что существуют разные способы
наличие различных норм влияет на мотивы действий людей,
присутствует в законе, как и везде, не отрицая того, что закон часто делает
разница; эти взгляды только отрицают, что есть что-то уникальное в
способ, которым право меняет мотивы действий своих субъектов по сравнению с
другие виды нормативных требований. Другие оспаривают нормативность закона с
противоположный угол (Гринберг 2014, Хершовиц 2015), утверждая, что
Единственная сторона права, имеющая нормативное значение, — моральная
разница, которую он вносит в причины действий людей.
В последние два десятилетия 20-го века перед общим
юриспруденции, и особенно к юридическому позитивизму, заняли
интересный методологический поворот. Этот методологический поворот получил
импульс с публикацией Дворкина Law’s Empire (1986), утверждая, что не только право, как
социальная практика, является глубоко интерпретативным (и, таким образом, отчасти, но
обязательно оценочный характер), но что любая теория о
природа права также интерпретируется аналогичным образом, и, таким образом,
одинаково оценочно. Многие из тех, кто не обязательно разделяет
Дворкина о толковательном характере юридической практики, или
специфика его теории интерпретации, присоединились к нему в этом
методологический скептицизм в отношении традиционных целей общего
юриспруденции, то есть о возможности разработки теории
о такой природе права, которое имело бы общее применение и оставалось бы
морально нейтрально. Эти и другие вытекающие из этого методологические проблемы
к традиционной общей юриспруденции рассматриваются в следующем
раздел.
Многие из тех, кто не обязательно разделяет
Дворкина о толковательном характере юридической практики, или
специфика его теории интерпретации, присоединились к нему в этом
методологический скептицизм в отношении традиционных целей общего
юриспруденции, то есть о возможности разработки теории
о такой природе права, которое имело бы общее применение и оставалось бы
морально нейтрально. Эти и другие вытекающие из этого методологические проблемы
к традиционной общей юриспруденции рассматриваются в следующем
раздел.
Однако справедливо будет сказать, что в последние годы многие
философы-правоведы выражают растущее недовольство этими
традиционные дебаты о природе права, призывающие к
философии, чтобы выйти за рамки дебатов Харта и Дворкина и исследовать новые
направления исследований. Некоторые из этих новых критиков довольствуются отказом
проект вообще, объявив смерть общей юриспруденции
(Хершовиц 2015). Другие, однако, заняты изучением новых
проблемы. Одна из новых областей исследований касается природы артефактов. права, стремясь узнать что-то о природе права из
тот факт, что закон кажется артефактом, созданным и поддерживаемым людьми
для конкретных целей.(См., например, Буразин и др. Ред., 2018.)
Другие исследуют связи между характеристиками закона как артефакта и
фикционализм, предполагая, что лежащие в их основе логика и метафизика
имеют много общего (Marmor 2018). Еще одно новое и
потенциально плодотворная область исследований сосредоточена на приложениях
философии языка к праву, привнося новые разработки в философию
языка, особенно в прагматике, для решения вопросов юридического
интерпретация и понимание юридического содержания (Asgeirsson
готовится к печати, Асгейрссон, 2015 г., Мармор, 2014 г.).Это лингвистическое направление
однако не является бесспорным; некоторые философы-юристы выражают
скептицизм в отношении идеи о том, что юридическое содержание определяется
лингвистические факторы (Гринберг, 2011), и продолжаются дебаты
об этих вопросах. Наконец, похоже, растет интерес
в недавних событиях в метафизике, которые могут иметь отношение к теории
о природе закона, и даже споры о мета-метафизике
начинают появляться в контексте общей юриспруденции,
стремясь показать, как мы думаем о задачах
метафизическое исследование может иметь отношение к тому, как мы думаем о законе (Розен
2010).
права, стремясь узнать что-то о природе права из
тот факт, что закон кажется артефактом, созданным и поддерживаемым людьми
для конкретных целей.(См., например, Буразин и др. Ред., 2018.)
Другие исследуют связи между характеристиками закона как артефакта и
фикционализм, предполагая, что лежащие в их основе логика и метафизика
имеют много общего (Marmor 2018). Еще одно новое и
потенциально плодотворная область исследований сосредоточена на приложениях
философии языка к праву, привнося новые разработки в философию
языка, особенно в прагматике, для решения вопросов юридического
интерпретация и понимание юридического содержания (Asgeirsson
готовится к печати, Асгейрссон, 2015 г., Мармор, 2014 г.).Это лингвистическое направление
однако не является бесспорным; некоторые философы-юристы выражают
скептицизм в отношении идеи о том, что юридическое содержание определяется
лингвистические факторы (Гринберг, 2011), и продолжаются дебаты
об этих вопросах. Наконец, похоже, растет интерес
в недавних событиях в метафизике, которые могут иметь отношение к теории
о природе закона, и даже споры о мета-метафизике
начинают появляться в контексте общей юриспруденции,
стремясь показать, как мы думаем о задачах
метафизическое исследование может иметь отношение к тому, как мы думаем о законе (Розен
2010). Например, если главная задача метафизики состоит в том, чтобы определить
что реально существует в мире, независимо от того, о чем мы думаем
Это или способы, которыми мы представляем мир, метафизика, возможно, не
можно многое сказать о природе права или, возможно, это может указывать на то, что
только научный подход к юриспруденции может привести к метафизическому
достойные результаты. Если, однако, задача метафизического исследования
также выяснить, что является более фундаментальным, чем что-то еще,
давая нам иерархическую структуру мира, где некоторые вещи
обосновывать других, то метафизика могла бы быть очень плодотворной основой для
работать с в попытке разъяснить основы законности и правового
явления в более общем плане.Этот потенциальный метафизический интерес к
юриспруденция в настоящее время находится в зачаточном состоянии, и время покажет, будет ли это
новый подход дает нам интересные результаты.
Например, если главная задача метафизики состоит в том, чтобы определить
что реально существует в мире, независимо от того, о чем мы думаем
Это или способы, которыми мы представляем мир, метафизика, возможно, не
можно многое сказать о природе права или, возможно, это может указывать на то, что
только научный подход к юриспруденции может привести к метафизическому
достойные результаты. Если, однако, задача метафизического исследования
также выяснить, что является более фундаментальным, чем что-то еще,
давая нам иерархическую структуру мира, где некоторые вещи
обосновывать других, то метафизика могла бы быть очень плодотворной основой для
работать с в попытке разъяснить основы законности и правового
явления в более общем плане.Этот потенциальный метафизический интерес к
юриспруденция в настоящее время находится в зачаточном состоянии, и время покажет, будет ли это
новый подход дает нам интересные результаты.
Говоря о методологии юриспруденции, мы находим два основных
вопросы.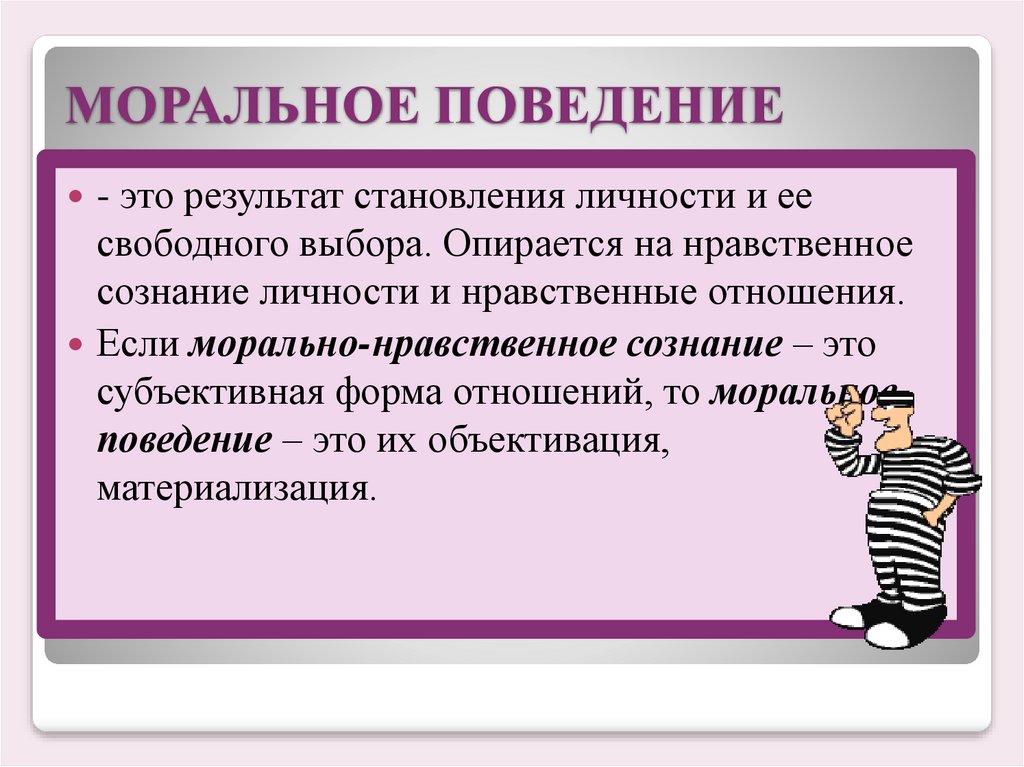 Хотя никто не имеет прямого отношения к нормативности,
второй есть. Первый спрашивает о целях и критериях успеха для
философские теории о природе права:
Хотя никто не имеет прямого отношения к нормативности,
второй есть. Первый спрашивает о целях и критериях успеха для
философские теории о природе права:
Какова цель теории первого порядка? закон стремится захватить, и когда им это удается?
Второй спрашивает о роли оценки в юриспруденции. методология:
Являются ли юридические теории первого порядка по своей сути или обязательно оценочные или могут быть чисто описательными?
Каждый из этих вопросов будет обсуждаться по очереди.
2.1 Цель теории права
Первый важный класс методологических вопросов в
юриспруденция касается цели теорий первого порядка
закона, то есть, какое явление такие теории стремятся дать
аккаунт. Заняв позицию в отношении того, что является надлежащей целью
юридическая теория первого порядка состоит в том, что каждый влечет за собой ряд других
методологические обязательства. К ним относятся принятие точки зрения о том, когда
такие теории успешны, опираясь на то, какого рода данные такие
теории стремятся систематизировать и объяснить, а также определить, какие виды
аргументы правомерно используются при выборе между одним из этих
теории и ее конкурентов.
Существует пять основных групп мнений по этому вопросу. Один просмотр занимает
юриспруденцию как форму концептуального анализа, т.
что теории права стремятся дать объяснение некоторой концепции
закон. Этот подход часто ассоциируется с влиятельной работой Харта.
работа, Концепция Закона (1994). Второй тип точки зрения принимает
более скептическое отношение к методологии концептуального анализа
и считает, что теории права призваны предлагать
редуктивное объяснение самого права, а не какой-то его концепции.Другой
недавняя точка зрения рассматривает общую юриспруденцию как еще одну отрасль
метанормативное исследование, которое делает его непрерывным с другими
философские области, такие как метаэтика. В-четвертых, предписывающий взгляд
исходит из того, что целью теории права является уточнение понятия
закон, который было бы наиболее желательно для нас принять. Пятый вид
точка зрения, связанная с творчеством Дворкина, считает законным
теории предлагают конструктивную интерпретацию
юридической практики. В дальнейшем каждое из этих пяти представлений, а также
поскольку некоторые из основных проблем, с которыми они сталкиваются, будут обсуждаться далее.
глубина.
В дальнейшем каждое из этих пяти представлений, а также
поскольку некоторые из основных проблем, с которыми они сталкиваются, будут обсуждаться далее.
глубина.
2.1.1 Представления концептуального анализа
С точки зрения концептуального анализа, теории права стремятся охватить концепции права, и они преуспевают в той мере, в какой обеспечивают последовательное изложение соответствующих данных об этом понятии и связанных с ним концепции. В частности, данные, подлежащие систематизации, человеческая интуиция, связанная с некоторым общим понятием закона (или родственные понятия, такие как юридическая действительность или юридическое обязательство). В их простейшей форме, такие интуиции можно рассматривать как суждения о относится ли соответствующее понятие к конкретному случаи.Соответственно, с этой точки зрения, теория права стремится обеспечить учет условий, при которых целевое понятие применяется закон (или один из родственных ему законов).
Более того, к такой теории можно прийти, используя
метод концептуального анализа, взятый из пословиц
кресло. Идея состоит в том, что теоретик начинает с предполагаемого набора
критерии правильного применения целевой концепции, а затем
она проверяет эту версию на соответствие своим интуитивным представлениям об этой концепции.Если
из этого следует, что это понятие применяется к конкретным случаям, которые
оно интуитивно не применимо к, то это дает основание отклонить
или пересмотреть рассматриваемую учетную запись. Напротив, если счет влечет за собой
что целевая концепция применима к определенным случаям, и это
интуитивно правильный результат, это, как правило, обеспечивает утвердительную поддержку
для счета. Аккаунт успешно фиксирует целевую концепцию
в той мере, в какой он дает интуитивно правильные результаты о
частных случаях и делает это объяснительно удовлетворительным образом (как
в отличие от метода ad hoc).(Для более подробного обсуждения
методология концептуального анализа применительно к понятию права,
см. Шапиро 2011, 16–22.)
Идея состоит в том, что теоретик начинает с предполагаемого набора
критерии правильного применения целевой концепции, а затем
она проверяет эту версию на соответствие своим интуитивным представлениям об этой концепции.Если
из этого следует, что это понятие применяется к конкретным случаям, которые
оно интуитивно не применимо к, то это дает основание отклонить
или пересмотреть рассматриваемую учетную запись. Напротив, если счет влечет за собой
что целевая концепция применима к определенным случаям, и это
интуитивно правильный результат, это, как правило, обеспечивает утвердительную поддержку
для счета. Аккаунт успешно фиксирует целевую концепцию
в той мере, в какой он дает интуитивно правильные результаты о
частных случаях и делает это объяснительно удовлетворительным образом (как
в отличие от метода ad hoc).(Для более подробного обсуждения
методология концептуального анализа применительно к понятию права,
см. Шапиро 2011, 16–22.)
На юриспруденцию оказали влияние два основных способа понимания
релевантные интуиции (или данные), к которым стремятся теории права.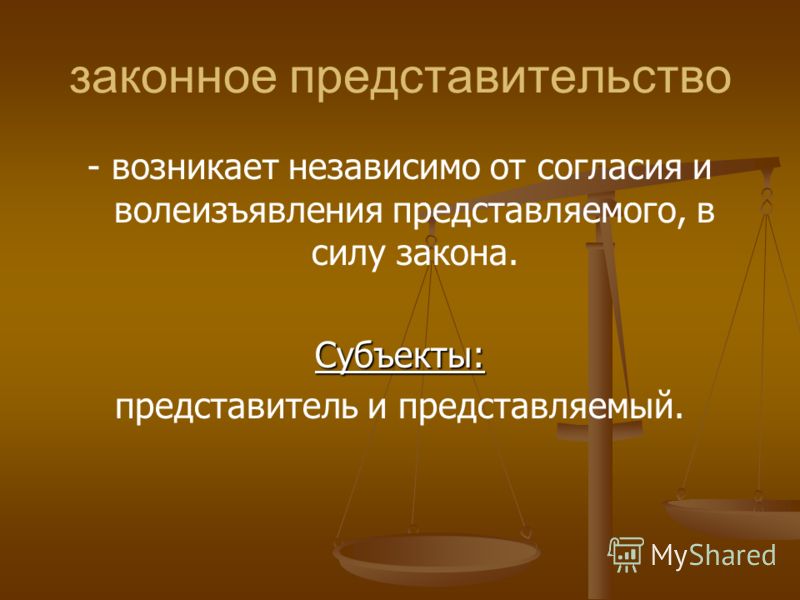 систематизировать. Это, в свою очередь, связано с тем, что можно
понимать сами понятия и наши интуитивные представления о них в двух
различные пути. Соответственно, мы находим две основные разновидности
концептуальный анализ методологии.
систематизировать. Это, в свою очередь, связано с тем, что можно
понимать сами понятия и наши интуитивные представления о них в двух
различные пути. Соответственно, мы находим две основные разновидности
концептуальный анализ методологии.
Первое понимание понятий предполагает, что обладание понятиями в основном вопрос языковой компетенции. То есть обладать Понятие права состоит в том, чтобы знать, когда слово «право», используемое в применяется его юридический (не научный) смысл. Таким образом, интуитивные представления о понятии права следует понимать как лингвистические интуиция о том, как использовать слово «закон». По настоящему Таким образом, концептуальный анализ является модусом лингвистического анализа. Этот эта точка зрения широко обсуждалась в главах 1 и 2 Империя Закона Дворкина (Дворкин 1986, 32, 43–46).Это, возможно, восходит к виду обычного языка философия, связанная с Дж. Л. Остином и Гилбертом Райлом (Marmor 2013, 210–212).
Однако такое понимание обладания понятиями
недостатки.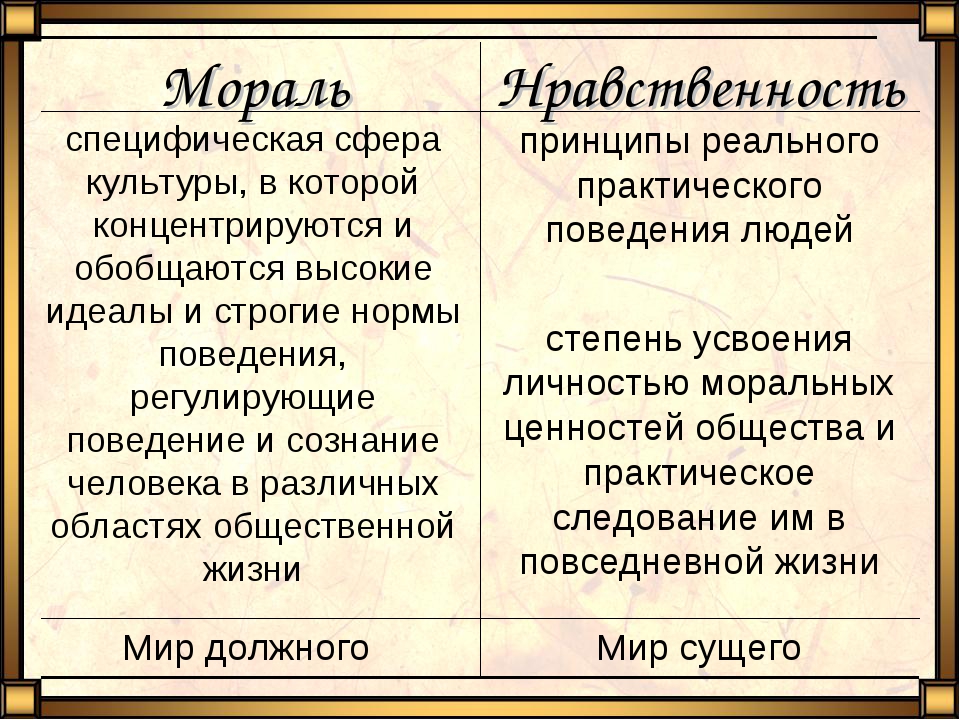 Возможно, самый большой источник беспокойства в настоящее время
контекст заключается в том, что такого рода взгляды подпитывают версию Дворкина.
аргумент «семантического жала» (Dworkin 1986, 43–46). То
аргумент можно резюмировать следующим образом. Предположим, что правовые теории стремятся
захватить понятие закона, и что владение понятием просто
важно знать, когда применяется слово «закон».Если да, то
аргумент, правовые теории не могут объяснить разногласия по поводу
оснований права, то есть об условиях юридической действительности. После
все, если юридические теории в этом смысле семантичны по своей природе, то
разногласия по поводу того, что является основанием права, должны сводиться к
разногласия по поводу того, когда применяется слово «закон» — в
по крайней мере, если предположить, что стороны в разногласии не просто разговаривают
мимо друг друга. Но теперь возникает дилемма. Либо практикующие юристы
обладают одинаковой концепцией права или нет.Если они обладают
такая же концепция, то похоже они не могут не согласиться о
что требуется для того, чтобы норма считалась законом.
Возможно, самый большой источник беспокойства в настоящее время
контекст заключается в том, что такого рода взгляды подпитывают версию Дворкина.
аргумент «семантического жала» (Dworkin 1986, 43–46). То
аргумент можно резюмировать следующим образом. Предположим, что правовые теории стремятся
захватить понятие закона, и что владение понятием просто
важно знать, когда применяется слово «закон».Если да, то
аргумент, правовые теории не могут объяснить разногласия по поводу
оснований права, то есть об условиях юридической действительности. После
все, если юридические теории в этом смысле семантичны по своей природе, то
разногласия по поводу того, что является основанием права, должны сводиться к
разногласия по поводу того, когда применяется слово «закон» — в
по крайней мере, если предположить, что стороны в разногласии не просто разговаривают
мимо друг друга. Но теперь возникает дилемма. Либо практикующие юристы
обладают одинаковой концепцией права или нет.Если они обладают
такая же концепция, то похоже они не могут не согласиться о
что требуется для того, чтобы норма считалась законом. Ведь все знают
когда применяется слово, выражающее их общую концепцию права. Но это
неправдоподобно, поскольку юридическая практика на самом деле изобилует разногласиями
о том, каковы основания права (и, следовательно, что считается законом или
юридический). С другой стороны, если практикующие юристы делают , а не разделяют одну и ту же концепцию права, то их разногласия по поводу того, что
правовые основания должны быть как раз в связи с тем, что они говорят
мимо друг друга.Но это тоже маловероятно. Юридическая практика, как
Дворкин, это не «гротескная шутка» (Dworkin 1986,
44). Соответственно, должно быть что-то не так с истолкованием юридического
теории как простое семантическое объяснение того, когда слово «закон»
применяется.
Ведь все знают
когда применяется слово, выражающее их общую концепцию права. Но это
неправдоподобно, поскольку юридическая практика на самом деле изобилует разногласиями
о том, каковы основания права (и, следовательно, что считается законом или
юридический). С другой стороны, если практикующие юристы делают , а не разделяют одну и ту же концепцию права, то их разногласия по поводу того, что
правовые основания должны быть как раз в связи с тем, что они говорят
мимо друг друга.Но это тоже маловероятно. Юридическая практика, как
Дворкин, это не «гротескная шутка» (Dworkin 1986,
44). Соответственно, должно быть что-то не так с истолкованием юридического
теории как простое семантическое объяснение того, когда слово «закон»
применяется.
Если в свете этого аргумента мы должны отказаться от идеи, что
Правовые теории первого порядка являются семантическими теориями, есть две очевидные
пути продолжения. Во-первых, можно просто отказаться от идеи, что юридическое
теории являются упражнениями в концептуальном анализе. Это был Дворкин.
предпочтительный ответ, хотя, как мы увидим, можно отклонить
концептуальный анализ, не прибегая к излюбленной позиции Дворкина.
методология. (Подробнее об этом в подразделе 2.1.2.) Во-вторых, если кто-то хочет
до сих пор говорят, что юридические теории занимаются анализом
понятие права, то очевидный ответ на семантическое жало
Аргумент состоит в том, чтобы отрицать, что обладание концепцией — это просто вопрос знания
как следует применять слово «право» в его юридическом смысле.
Это предполагает вторую, более богатую форму концептуального анализа,
могут заниматься теоретики.
Это был Дворкин.
предпочтительный ответ, хотя, как мы увидим, можно отклонить
концептуальный анализ, не прибегая к излюбленной позиции Дворкина.
методология. (Подробнее об этом в подразделе 2.1.2.) Во-вторых, если кто-то хочет
до сих пор говорят, что юридические теории занимаются анализом
понятие права, то очевидный ответ на семантическое жало
Аргумент состоит в том, чтобы отрицать, что обладание концепцией — это просто вопрос знания
как следует применять слово «право» в его юридическом смысле.
Это предполагает вторую, более богатую форму концептуального анализа,
могут заниматься теоретики.
Основная идея, лежащая в основе более богатого представления, состоит в том, чтобы
владения, а не просто знать, когда слова
применяется, предполагает нечто более существенное, а именно: обладание широким
диапазон существенных убеждений или интуитивных представлений о понятии, его
Основные характеристики и правильное применение. Предполагается, что
интуиция, к которой человек склонен обладать в силу обладания
понятие права будет достаточно плодотворным, чтобы составить особое
содержательное представление о том, что такое право и как оно действует. Цель
Таким образом, теории права было бы систематизировать эти дотеоретические
суждения о понятии права, чтобы дать представление о
некоторая содержательная концепция права. (Такое более богатое представление о
владение концептом обсуждается, например, в Raz 2004, 4–7;
Стравопулос, 2012 г., стр. 78–79; Шапиро 2011, 16–22. Возможно, это также
точка зрения, предложенная Хартом.) С этой точки зрения юридические разногласия
остается возможным, потому что, хотя все практикующие могут использовать
одно и то же понятие права, богатство понятия позволяет, чтобы они
тем не менее может не обладать этим понятием достаточно определенно, или
достаточно хорошо понимать условия его применения, чтобы гарантировать
консенсус по теоретическим вопросам о том, что является основанием права
на самом деле есть.
Цель
Таким образом, теории права было бы систематизировать эти дотеоретические
суждения о понятии права, чтобы дать представление о
некоторая содержательная концепция права. (Такое более богатое представление о
владение концептом обсуждается, например, в Raz 2004, 4–7;
Стравопулос, 2012 г., стр. 78–79; Шапиро 2011, 16–22. Возможно, это также
точка зрения, предложенная Хартом.) С этой точки зрения юридические разногласия
остается возможным, потому что, хотя все практикующие могут использовать
одно и то же понятие права, богатство понятия позволяет, чтобы они
тем не менее может не обладать этим понятием достаточно определенно, или
достаточно хорошо понимать условия его применения, чтобы гарантировать
консенсус по теоретическим вопросам о том, что является основанием права
на самом деле есть.
Однако и это более богатое понимание обладания понятиями, и
более содержательная картина концептуального анализа, которую он дает, была
широко критикуется (Marmor 2013, 215–217; Raz 2004, 10; Leiter
2007, 177–79).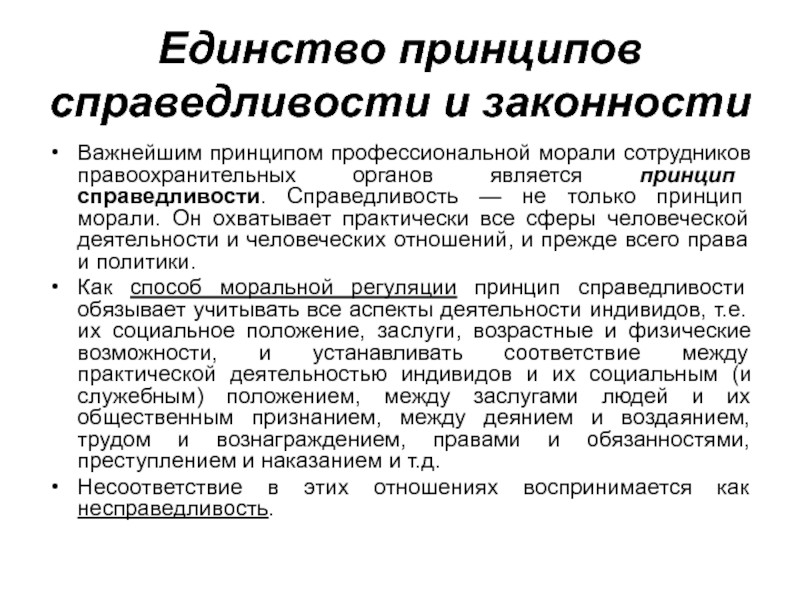 Сразу возникает один вопрос какое именно понятие права составляет надлежащую цель
из теории права. Это понятие права, которым обладает
практикующих юристов в конкретной юрисдикции? Или это какой-то
универсальное понятие права? Заботы нависают в любом случае.Если юридический
теория стремится лишь уловить концепцию права, используемую в
конкретной юрисдикции, то это сделало бы теорию местнической
и это может потерять интерес для тех, кто не заинтересован в
этой конкретной юрисдикции. С другой стороны, можно усомниться в том, что
действительно существует универсальное понятие права, которое используется
практикующими специалистами во всех юрисдикциях, или, если таковой имеется,
сомнительно, что это что-то большее, чем некая тонкая концепция,
человек обладает в силу знания того, что означает слово «закон» в
означает его юридический смысл.
Сразу возникает один вопрос какое именно понятие права составляет надлежащую цель
из теории права. Это понятие права, которым обладает
практикующих юристов в конкретной юрисдикции? Или это какой-то
универсальное понятие права? Заботы нависают в любом случае.Если юридический
теория стремится лишь уловить концепцию права, используемую в
конкретной юрисдикции, то это сделало бы теорию местнической
и это может потерять интерес для тех, кто не заинтересован в
этой конкретной юрисдикции. С другой стороны, можно усомниться в том, что
действительно существует универсальное понятие права, которое используется
практикующими специалистами во всех юрисдикциях, или, если таковой имеется,
сомнительно, что это что-то большее, чем некая тонкая концепция,
человек обладает в силу знания того, что означает слово «закон» в
означает его юридический смысл.
Более глубокое беспокойство по поводу всех форм концептуального анализа вызывает
вопрос о том, почему мы должны заботиться о чьей-либо концепции прежде всего права (Marmor 2013, 216–217; Leiter 2007, 177–79). Ведь как философам кажется, что это природа права
сам , что мы заботимся о понимании (Раз 2004, 7, 10).
Конечно, есть интересные социологические вопросы, о которых можно задаться.
что различные группы людей думают о том, как закон
функции.Но не очевидно, что есть что-то отличительное
философски относитесь к таким вопросам. Поскольку философы (qua
философы) интересуются тем, что люди думают о данном
концепции, это было бы потому, что понимание убеждений людей
о понятии — это путь к пониманию того, чем оно является.
концепция из (Раз 2004, 4, 10). Соответственно, можно подумать
то, что теории права стремятся зафиксировать, не является чьей-либо концепцией
права в частности, а, скорее, самой природы права.(Смотрите также
Вход
на
концепции, раздел 5.2.)
Ведь как философам кажется, что это природа права
сам , что мы заботимся о понимании (Раз 2004, 7, 10).
Конечно, есть интересные социологические вопросы, о которых можно задаться.
что различные группы людей думают о том, как закон
функции.Но не очевидно, что есть что-то отличительное
философски относитесь к таким вопросам. Поскольку философы (qua
философы) интересуются тем, что люди думают о данном
концепции, это было бы потому, что понимание убеждений людей
о понятии — это путь к пониманию того, чем оно является.
концепция из (Раз 2004, 4, 10). Соответственно, можно подумать
то, что теории права стремятся зафиксировать, не является чьей-либо концепцией
права в частности, а, скорее, самой природы права.(Смотрите также
Вход
на
концепции, раздел 5.2.)
Возможным ответом на это возражение является утверждение, что, поскольку закон
представляет собой социальное явление и частично состоит из
собственное понимание практиками той практики, которой они занимаются
занимается сбором доказательств о понятии права, которым обладает
юристы-практики – особенно полезный способ исследовать закон
себя (Стравопулос 2012, 79). Тем не менее, можно задаться вопросом, является ли это
путь к исследованию природы самого права был бы самым
эффективная стратегия применения, учитывая ее косвенность.Зачем ограничивать
себя задавать вопросы о концепциях, если право может быть изучено
напрямую?
Тем не менее, можно задаться вопросом, является ли это
путь к исследованию природы самого права был бы самым
эффективная стратегия применения, учитывая ее косвенность.Зачем ограничивать
себя задавать вопросы о концепциях, если право может быть изучено
напрямую?
Совсем другим ответом было бы принять платонистскую трактовку
понятия, согласно которым они не являются мысленными представлениями в
все, а скорее абстрактные объекты, родственные объектам математических
расследование. Таким образом, понятие права было бы абстрактным объектом.
должен понять, чтобы думать о законе. Соответственно, это
абстрактный объект — понятие закона — что
философы заботятся и стремятся исследовать, используя метод
концептуальный анализ (см.Билер 1998). Тем не менее этот взгляд
понятий сталкивается со знакомыми возражениями. С одной стороны, требуется учетная запись
каким образом мы можем получить доступ к понятию права, понимаемого как
независимо существующий абстрактный объект. Более того, даже если мы сможем получить доступ
это, возникает загадка о том, как разные люди, которые все решительно
понять концепция закона может в конечном итоге не согласиться
о его природе (Sarch 2010, 468–73). Наконец, хотя это может быть
правдоподобно, что априори дисциплин, таких как математика и логика
стремиться исследовать абстрактные объекты (см. запись о
платонизм в философии математики),
Нет
ясно, что исследование такого социального явления, как закон, который
сильно зависит от человеческих убеждений, взглядов и поведения, может быть
понимается аналогично.Пока математики могут исследовать
природа абстрактных объектов, таких как числа или множества, кажется более сомнительной
что философы-юристы исследуют абстрактный объект закон .
Наконец, хотя это может быть
правдоподобно, что априори дисциплин, таких как математика и логика
стремиться исследовать абстрактные объекты (см. запись о
платонизм в философии математики),
Нет
ясно, что исследование такого социального явления, как закон, который
сильно зависит от человеческих убеждений, взглядов и поведения, может быть
понимается аналогично.Пока математики могут исследовать
природа абстрактных объектов, таких как числа или множества, кажется более сомнительной
что философы-юристы исследуют абстрактный объект закон .
2.1.2 Исследование самого Закона
Учитывая вышеизложенные сомнения в отношении концептуального анализа, существует несколько точек зрения.
были предложены в соответствии с тем, какие правовые теории первого порядка являются
прежде всего в деле описания и объяснения природы
сам закон , а не какое-либо его понятие.Редукционист и
натуралистические взгляды попадают в эту категорию. (Как отмечено ниже, такие взгляды
не нужно полностью отказываться от только что обрисованных кабинетных методов, но
насколько эти методы остаются жизнеспособными, совершенно другое объяснение
их защита должна быть предоставлена.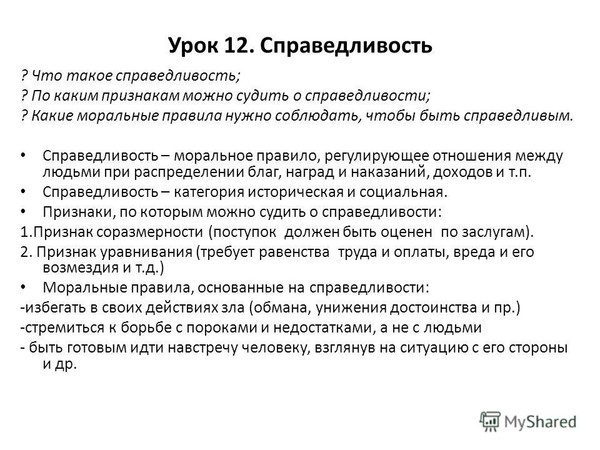 )
)
В частности, редукционистские взгляды исходят из того, что освещение
Природа права заключается в объяснении того, что такое право и как оно
действует в терминах более фундаментальных фактов. В результате первый порядок
теории права преуспевают в той мере, в какой они достигают этого в
объяснительно мощный способ (Marmor 2013).Цель первого порядка
теория, с такой точки зрения, состоит в том, чтобы предложить метафизических
редукции права: то есть показать, что явление права есть
на самом деле составлено и полностью сводится к какому-то другому, более
фундаментальный тип явления (подобно тому, как химия могла бы в
принцип можно свести к физике элементарных частиц). В таком понимании позитивизм,
например, попытались бы объяснить природу права, сводя факты
о том, что такое закон, как он функционирует и чего он требует, чтобы более
основополагающие социальных фактов — e.г., о
поведение, убеждения и склонности людей. Предоставляя
редукции такого рода, теория, подобная позитивизму, стремится осветить
сам феномен права, расчленив его на составляющие
и объясняя, как они вместе составляют сложную социальную практику
это закон.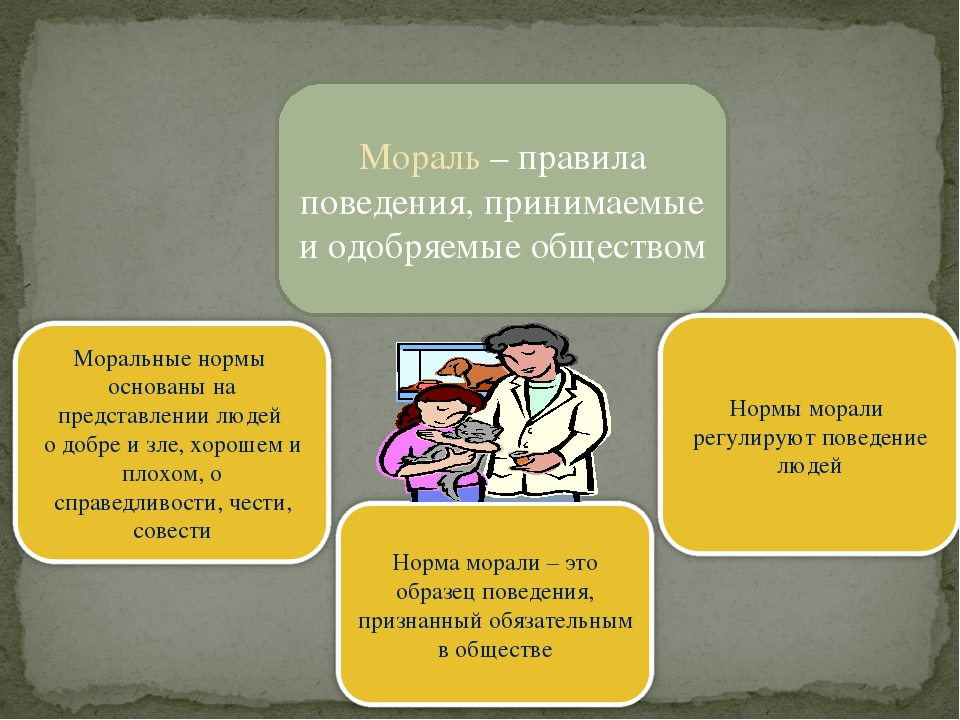 (Подробнее о метафизической редукции в целом см.
Шредер 2007, 61–83; см. также запись о
научное сокращение.)
(Подробнее о метафизической редукции в целом см.
Шредер 2007, 61–83; см. также запись о
научное сокращение.)
Один из хорошо известных редукционистских взглядов натурализован. юриспруденция.Брайан Лейтер был самым выдающимся защитником эта позиция (Leiter 2007). Как и другие редукционистские взгляды, натурализованная юриспруденция ставит целью правовых теорий объяснить природу самого права (а не чье-либо понятие Это). Но что характерно для натурализованной юриспруденции, так это то, что он также настаивает на использовании чисто эмпирической методологии в делая это (Leiter 2007, 180–81, 183–99). (Смотри также запись на натурализм в философии права.)
Натуралисты могут расстаться с приверженцами других редукционистов.
взгляды на то, являются ли кабинетные методы философов и
связанные с этим обращения к интуиции, мысленным экспериментам и т.п.
заблуждающийся.Натуралист, скорее всего, отвергнет этот способ исследования.
в то время как другие редукционисты могут быть более склонны к его использованию. А
редукционисты могли в принципе защищать такого рода исследования, поскольку
например, утверждая, что наши частные интуиции включают в себя
концепция, которую мы приобрели из опыта юридической практики, и
так что такие интуитивные догадки могут быть одним из полезных источников информации о
природа самого права. Более того, если юридическая практика (как социальная
явление) частично состоит из собственных
убеждения и отношение к практике, которой они занимаются, то
свидетельства о концепции права практикующими юристами могут доказать
особенно уместно в качестве свидетельства о самом законе (Стравопулос
2012, 79).
А
редукционисты могли в принципе защищать такого рода исследования, поскольку
например, утверждая, что наши частные интуиции включают в себя
концепция, которую мы приобрели из опыта юридической практики, и
так что такие интуитивные догадки могут быть одним из полезных источников информации о
природа самого права. Более того, если юридическая практика (как социальная
явление) частично состоит из собственных
убеждения и отношение к практике, которой они занимаются, то
свидетельства о концепции права практикующими юристами могут доказать
особенно уместно в качестве свидетельства о самом законе (Стравопулос
2012, 79).
Напротив, натуралисты, как правило, не одобряют кабинетный метод.
проверки теорий права на интуицию, учитывая их цель
делая «философское теоретизирование непрерывным и зависимым от
при научном теоретизировании» (Leiter 2007, 35). Лейтер утверждает
что наши интуитивные представления о законе слишком ненадежны, чтобы позволить себе
эпистемологический вес (как утверждали другие в отношении интуиций в
другие области философии) (Leiter 2007, 180, 184; ср. Cummins
1998). По мнению Лейтера, философы в целом должны стремиться
раскройте «концепции, которые были подтверждены их ролью в
успешное объяснение и предсказание эмпирических явлений»
(Лейтер 2007, 184).Таким образом, он предлагает методологию, которая
серьезно… общественно-научная литература по праву… посмотреть
какое понятие закона фигурирует в самом мощном объяснительном и
прогностические модели таких правовых явлений, как поведение судей».
(Лейтер 2007, 184). Однако эта методологическая точка зрения вызывает
вопросы о том, почему философу права следует изучать только судебные
поведение, а не что-то другое. В более общем плане натуралист обязан
учет того, какие особенности права больше всего нуждаются в объяснении и
Зачем.
Cummins
1998). По мнению Лейтера, философы в целом должны стремиться
раскройте «концепции, которые были подтверждены их ролью в
успешное объяснение и предсказание эмпирических явлений»
(Лейтер 2007, 184).Таким образом, он предлагает методологию, которая
серьезно… общественно-научная литература по праву… посмотреть
какое понятие закона фигурирует в самом мощном объяснительном и
прогностические модели таких правовых явлений, как поведение судей».
(Лейтер 2007, 184). Однако эта методологическая точка зрения вызывает
вопросы о том, почему философу права следует изучать только судебные
поведение, а не что-то другое. В более общем плане натуралист обязан
учет того, какие особенности права больше всего нуждаются в объяснении и
Зачем.
Другая проблема, которая возникает в связи с редукционистскими взглядами (и
возможно, и натуралистические взгляды) заключается в том, что она может представлять особую
проблемы позитивизма. В частности, если право есть нормативное явление
влечет за собой юридические обязательства, можно опасаться, что это не
можно сократить юридические факты (т. е. факты о том, что
юридические обязательства относятся) к набору чисто ненормативных фактов,
например, социальные. Можно подумать, что это было бы
недопустимо нарушать знакомое (хотя и не бесспорное)
есть-должен разрыв.(Для обсуждения подобного рода беспокойства о позитивизме см.
см. Шапиро 2011, 47–49.)
е. факты о том, что
юридические обязательства относятся) к набору чисто ненормативных фактов,
например, социальные. Можно подумать, что это было бы
недопустимо нарушать знакомое (хотя и не бесспорное)
есть-должен разрыв.(Для обсуждения подобного рода беспокойства о позитивизме см.
см. Шапиро 2011, 47–49.)
В ответ один путь, по которому позитивисты, желающие быть редукционистами, можно было бы утверждать, что юридические факты действительно носят описательный характер. характер, а не подлинно нормативный. В частности, такие позитивисты могут утверждают, что факты о том, какие юридические обязательства у нас есть, просто описательные факты о том, что содержит закон , что мы должны делать, а не нормативные факты о том, что мы действительно должны делать (Шапиро 2011, 188; см. также Hart 1994, 110).
2.1.3 Метанормативный исследовательский взгляд
Другой недавний методологический взгляд, разработанный Планкеттом и Шапиро.
(2017) рассматривает общую юриспруденцию как еще одну отрасль
метанормативное исследование.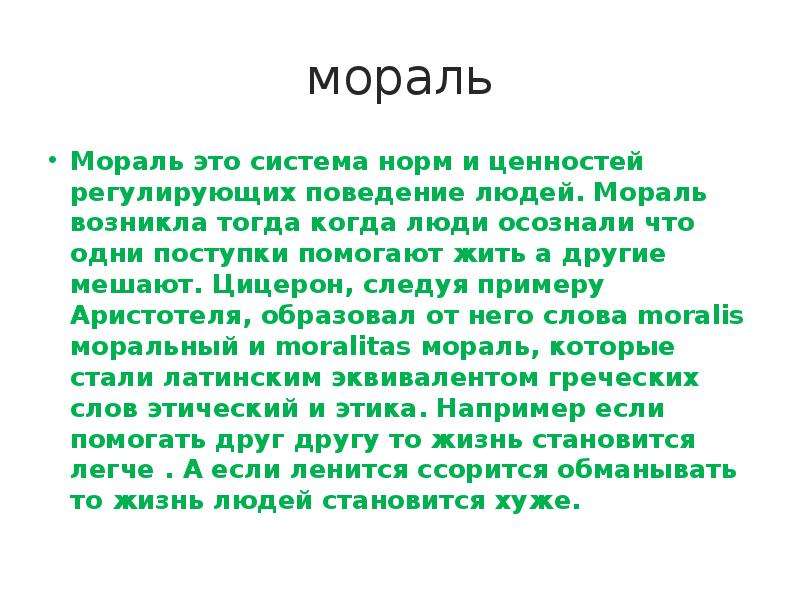 Последний вид исследования в общем случае
стремится объяснить, как нормативные мысли, разговоры и сущности (если таковые имеются) подходят
в реальность. Метаэтика — еще одна ветвь метанормативного исследования.
в котором основное внимание уделяется тому, как этические мысли, разговоры и сущности вписываются в
реальность. Таким образом, с настоящей точки зрения предмет исследования в целом
юриспруденция была бы законными мыслями, разговорами и сущностями (если
любой), и цель этой области состояла бы в том, чтобы объяснить, как такая мысль
и говорить о праве, а также о правовых структурах и правовых
свойства (если таковые имеются) — лучше всего учитывать в общем
философский взгляд на реальность.С этой точки зрения судебное расследование
было бы продолжением — и методологически совершенно
аналогична работе, проделанной в других областях нормативного исследования,
Особенно этика и эстетика.
Последний вид исследования в общем случае
стремится объяснить, как нормативные мысли, разговоры и сущности (если таковые имеются) подходят
в реальность. Метаэтика — еще одна ветвь метанормативного исследования.
в котором основное внимание уделяется тому, как этические мысли, разговоры и сущности вписываются в
реальность. Таким образом, с настоящей точки зрения предмет исследования в целом
юриспруденция была бы законными мыслями, разговорами и сущностями (если
любой), и цель этой области состояла бы в том, чтобы объяснить, как такая мысль
и говорить о праве, а также о правовых структурах и правовых
свойства (если таковые имеются) — лучше всего учитывать в общем
философский взгляд на реальность.С этой точки зрения судебное расследование
было бы продолжением — и методологически совершенно
аналогична работе, проделанной в других областях нормативного исследования,
Особенно этика и эстетика.
Однако один вопрос, который возникает в связи с этой позицией, касается
насколько эта методология отличается от обсуждаемых
выше. Если в центре метанормативного исследования лежит юридическая мысль
и говорить, мы, кажется, довольно близко подошли к концептуальному анализу
картина того, как должна действовать юриспруденция.С другой стороны, если
фокус исследования подчеркивает, как юридические лица или собственность вписываются в
реальности в целом, то вид оказывается довольно близким к
натуралистическая позиция, согласно которой предметом юриспруденции является
явление самого права. Тем не менее, возможно, особая привлекательность
метанормативного взгляда состоит в том, что он может показать, как концептуальное
аналитическая картина и натуралистическая картина фиксируют отдельные фрагменты
большее предприятие задачи, которой занимается юриспруденция
в.Таким образом, вместо того, чтобы претендовать на замену других методологий
обсуждалось выше, метанормативный взгляд, если он обоснован, покончил бы с
есть привилегированная отправная точка для судебного расследования
(например, метафизика правового содержания, семантический анализ правового
заявления или характер юридических обязательств).
Если в центре метанормативного исследования лежит юридическая мысль
и говорить, мы, кажется, довольно близко подошли к концептуальному анализу
картина того, как должна действовать юриспруденция.С другой стороны, если
фокус исследования подчеркивает, как юридические лица или собственность вписываются в
реальности в целом, то вид оказывается довольно близким к
натуралистическая позиция, согласно которой предметом юриспруденции является
явление самого права. Тем не менее, возможно, особая привлекательность
метанормативного взгляда состоит в том, что он может показать, как концептуальное
аналитическая картина и натуралистическая картина фиксируют отдельные фрагменты
большее предприятие задачи, которой занимается юриспруденция
в.Таким образом, вместо того, чтобы претендовать на замену других методологий
обсуждалось выше, метанормативный взгляд, если он обоснован, покончил бы с
есть привилегированная отправная точка для судебного расследования
(например, метафизика правового содержания, семантический анализ правового
заявления или характер юридических обязательств).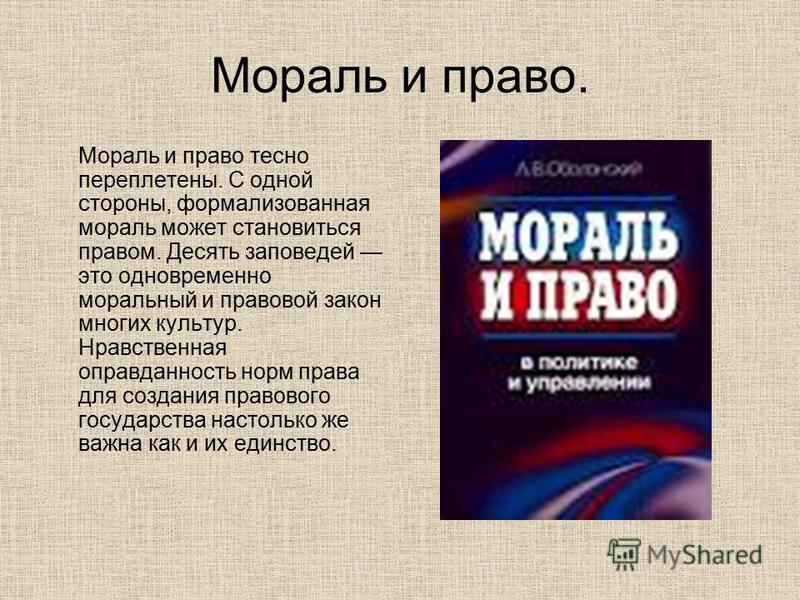
2.1.4 Предписывающий вид
Иной подход к методологии в юриспруденции требует состоит в том, что подлинная цель теории права состоит в том, чтобы определить концепция права, что было бы особенно желательно для людей усыновить.Более того, даже если концепция права, что это исследование в конечном итоге поддерживает радикальное отклонение от нашего дотеоретического понимание права, то результирующая теория будет рекомендовать отказ от прежнего понимания права. Соответственно, если юриспруденция – это в основном предписывающая деятельность, затем теории права может оказаться радикально-ревизионистским по своему характеру (хотя, конечно, не обязательно).
Как поясняется в следующем подразделе, методологическая концепция Дворкина
view включает в себя некоторые предписывающие элементы.Но один видный
сторонник исключительно предписывающего проекта – Нил МакКормик.
(MacCormick 1985; см. также Campbell 1996; Murphy 2001; Postema 1989;
Шауэр 1996; Уолдрон 2001). Маккормик утверждает, что
убедительные нормативные аргументы в пользу принятия позитивистского
концепция права. В частности, он предполагает, что такие значения, как
Автономия и свобода совести требуют, чтобы закон не регулировал
тяжелой рукой «сфера желаемых ценностей, обязанностей
самоуважения и обязанностей любви», сфера, которая касается
«стремление к добру сверх долга или к правильным направлениям
саморазвития или для надлежащего отношения к дарованию
своей семье, друзьям или соседям» (MacCormick 1985,
35–36).Такие ценности, как автономия и свобода совести,
Маккормак, поддерживают тезис о том, что по крайней мере в этой сфере
поведения, желательно сохранить вопрос о том, что закон
требует совершенно отдельного от вопроса о том, какая мораль
требует. (Однако Маккормик также допускает, что закон может
регулируют сферу «обязанностей справедливости», поскольку эти
обязанности в некотором смысле более весомы (MacCormick 1985, 35).)
Соответственно, по крайней мере в некоторых сферах поведения вопрос о том, что
закон есть следует рассматривать отдельно от вопроса о
чего требует мораль.Таким образом, Маккормик, кажется, предлагает
нормативный аргумент для утверждения, которое часто ассоциировалось с
позитивизм, а именно вариант тезиса о разделении. (Хотя, как
видно ранее, неясно, что все позитивисты должны быть привержены
к сильной версии этого тезиса.)
Маккормик утверждает, что
убедительные нормативные аргументы в пользу принятия позитивистского
концепция права. В частности, он предполагает, что такие значения, как
Автономия и свобода совести требуют, чтобы закон не регулировал
тяжелой рукой «сфера желаемых ценностей, обязанностей
самоуважения и обязанностей любви», сфера, которая касается
«стремление к добру сверх долга или к правильным направлениям
саморазвития или для надлежащего отношения к дарованию
своей семье, друзьям или соседям» (MacCormick 1985,
35–36).Такие ценности, как автономия и свобода совести,
Маккормак, поддерживают тезис о том, что по крайней мере в этой сфере
поведения, желательно сохранить вопрос о том, что закон
требует совершенно отдельного от вопроса о том, какая мораль
требует. (Однако Маккормик также допускает, что закон может
регулируют сферу «обязанностей справедливости», поскольку эти
обязанности в некотором смысле более весомы (MacCormick 1985, 35).)
Соответственно, по крайней мере в некоторых сферах поведения вопрос о том, что
закон есть следует рассматривать отдельно от вопроса о
чего требует мораль.Таким образом, Маккормик, кажется, предлагает
нормативный аргумент для утверждения, которое часто ассоциировалось с
позитивизм, а именно вариант тезиса о разделении. (Хотя, как
видно ранее, неясно, что все позитивисты должны быть привержены
к сильной версии этого тезиса.)
В то время как вопрос о том, какая концепция права наиболее желательна что люди принимают, безусловно, является важным, важно отметить что предписывающий взгляд на методологию в юриспруденции не действительно конкурирует либо с точкой зрения концептуального анализа, либо редукционистский подход.Ведь может оказаться, что для например, что позитивизм дает лучшее объяснение нашей концепции права, или, возможно, это лучшее редуктивное описание феномена права. сама по себе, несмотря на то, что существуют убедительные нормативные аргументы в пользу изменение практики или принятие новой концепции, которая, скажем, соответствует теории естественного права. Соответственно, представления о концепции права или редуктивных теорий права не обязательно несовместимы с предписывающими отчетами о том, какая правовая теория была бы наиболее желательно с моральной точки зрения принять.
2.1.5 Конструктивное толкование юридической практики
Заключительный методологический взгляд, заслуживающий отдельного рассмотрения как в благодаря своему влиянию и изощренности Дворкин (Дворкин, 1986). Эта точка зрения исходит из того, что (i) цель первого порядка теория права существующая юридическая практика и (ii) эти теории преуспевают в той мере, в какой они предлагают конструктивная интерпретация (в смысле Дворкина) этого упражняться. Согласно конструктивно-интерпретационной точке зрения, цель теории права первого порядка состоит не в том, чтобы анализировать какую-либо концепцию или свести юридические факты к другим, более фундаментальным фактам.Скорее, цель правовой теории состоит в том, чтобы реконструировать поведение и самопонимание участников юридической практики и, кроме того, сделать это таким образом, чтобы представить эту практику в лучшем моральном свете. В виде В результате теория права тем успешнее, чем лучше она подходит с данными о том, как практикующие юристы понимают практику занимаются, но и нормативно обосновывают, что практике (Dworkin 1986; Perry 1995, 129–31; см. также статью на правовой интерпретативизм).
Одна озабоченность по поводу конструктивной интерпретации взглядов на методология в юриспруденции заключается в том, что она не может быть подлинным конкуренция либо с концептуальным анализом, либо с редуктивными взглядами методология. В конце концов, один из проектов состоит в том, чтобы объяснить, какой закон на самом деле и как это работает (возможно, в соответствии с нашей концепцией Это). Но это совсем другой вид проекта, чтобы объяснить, как мы должен понимать закон, чтобы юридическая практика была нормативно обосновано.Кажется возможным, что наше объяснение того, какой закон на самом деле это говорит нам об одном (например, о том, что определенные черты являются существенными, а другие нет), в то время как наше объяснение того, какой закон должен быть похожим для того, чтобы практика была максимально оправданной рассказывает нам думать о праве несколько по-другому (например, как о наличии различные существенные признаки). Соответственно, некоторые утверждали, что конструктивная интерпретация взаимодействует с другими методологическими взгляды, упомянутые выше, только если он отрицает то, что они утверждают: а именно., что правовые теории пытаются дать объяснение (возможно, особый вид — например, редуктивный) фактической природы закон (или, возможно, наше представление о нем).
Один из способов, которым сторонники конструктивной интерпретации могли бы отрицать то, что утверждают некоторые другие методологические взгляды, отрицая, что даже возможно дать редуктивное объяснение закона. (Для обсуждения см. Marmor 2013, 218.) Мысль состояла бы в том, чтобы утверждать, что закон является нормативная практика и нормативные факты не могут быть сведены к чисто ненормативные факты, не теряя при этом чего-то существенного.В ответ, редукционист может либо отрицать, что юридические факты действительно нормативное (в этом случае искомое сокращение будет беспроблемным), или она может утверждать, что любая успешная редукция должны свести юридические факты к набору фактов, который включает в себя нормативные факты (в этом случае версия теории естественного права может выглядеть привлекательно).
2.2 Является ли правовая теория оценочной по своей сути?
Второй широко обсуждаемый вопрос о методологии юриспруденции заключается в том, являются ли правовые теории первого порядка по своей сути оценочными.То Вышеприведенные взгляды на надлежащую цель теорий права первого порядка различные последствия этого второго вопроса. Но прежде объясняя это, мы должны сначала получить соответствующий вопрос более четко с учетом.
2.2.1 Предварительные занятия
Для начала можно задаться вопросом, откуда интерес к вопросу того, является ли правовая теория по своей сути оценочной. Некоторые из этот интерес, вероятно, проистекает из скептического беспокойства по поводу того, что юридические теории претендующие на то, чтобы быть чисто описательными, на самом деле толкают некоторые скрытые идеологическая или политическая программа.(Подробнее об этом см., например, Введение Джона Гарднера в Dickson 2004.) Второй источник интерес к этому вопросу может заключаться в подозрении (или надежде), что если теория права оказывается по своей сути оценочной, что было бы независимая причина принять ту или иную версию теории естественного права. Ли однако это так и остается сомнительным, поскольку метавопросы о методология теории права prima facie кажутся независимыми вопросов в теории права первого порядка, таких как то, что детерминанты содержание закона.Более того, ученые-правоведы могут быть привлечены к данный вопрос путем рассмотрения аргумента Дворкина что существует очень тесная связь между оценочной природой теоретизирование о праве и оценочной природе самого права, ставя содержание права в неизбежную зависимость, по крайней мере частично, от морально-политические соображения. Независимо от мотивов участвовать в дебатах о том, является ли теория права по своей сути оценочный, однако, эта дискуссия приобрела самостоятельное значение и сам по себе был плодотворным источником понимания.
Во избежание путаницы вопрос, который нас здесь интересует, должен быть уточняется несколькими способами. Ибо существует ряд бесспорных способов, которыми правовая теория правдоподобна или могут быть оценочными, и они не затрагивают сути дела. методологические дебаты в юриспруденции.
Во-первых, существует несколько тривиальных способов, которыми правовая теория, например теорий про любая тема , правдоподобно не может быть совсем бесплатно. В частности, представляется, что нельзя заниматься заниматься теоретизированием о праве без оценки степени, в которой различные теории связны, просты, ясны, элегантны, всеобъемлющи, и так далее (Диксон 2004, 32–33).Согласитесь, это означает, что юридически теоретики должны участвовать в форме оценки. Но нет ничего Особое внимание в этой связи уделено теории права. Ведь эти метатеоретические добродетели являются критериями успеха теорий о любой предмет.
Второй, казалось бы, бесспорный способ, с помощью которого правовая теория оценочной заключается в том, что нельзя начинать разработку теории права без определение того, какие из его основных характеристик должны учитываться (Диксон 2001, 38–45). Джон Финнис, например, утверждает, что не может заниматься юридической теорией первого порядка, не занимая позицию в отношении того, что важные особенности права заключаются в том, что адекватные теории должны объяснять (т.е.г., претензия закона на власть). Однако это кажется требуют оценки (Finnis 1980, 9–15).
Тем не менее, вряд ли будет особенно спорным тот факт, что Юридическая теория является оценочной в этом смысле. Чтобы понять, почему, различайте между (a) толстыми оценочными пунктами , в которых своего рода нравственная добродетель или, может быть, всеобщая ценность, пункт и (b) тонкие оценочные претензии , которые не. (Этот различие примерно соответствует различию Джули Диксон между прямо оценочные суждения и косвенно оценочные предложения.См. Dickson 2001, 51–55.) Таким образом, простейший толстый оценочные утверждения имеют форму: \(X\) морально [все учтено] хорошо [плохо] . Такие претензии также могут быть сравнительный характер, так что они имеют вид: \(X\) есть нравственно [во всех отношениях] лучше [хуже], чем \(Y\). От Напротив, тонкие оценочные утверждения позволяют судить о том, насколько хорош тот или иной предмет. относительно стандарта, который не является ни моральным, ни учитывающим все обстоятельства нормативный. Такие претензии не влекут за собой никаких толстых оценочных претензий либо.Таким образом, примеры тонких оценочных утверждений включают: «\(X\) важен» и «\(X\) важен». интересный”. Соответственно, даже если теоретики права должны сделать тонкие оценочные требования, чтобы иметь возможность начать проект разрабатывая правовую теорию первого порядка, это не означает, что они должны сделать толстые оценочные заявления, чтобы сделать это. Ведь один можно построить теорию, охватывающую ряд правовых явлений, считаются центральными или важными, но при этом остаются агностиками в отношении ценны ли сами эти явления.
Третий способ, которым правовая теория в принципе может быть оценочной, хотя это и бесспорно, предполагается предписывающей точкой зрения обсуждалось в разделе 2.1.3. Если задача теории права первого порядка Для определения понятия права нам было бы наиболее желательно использовать, то в некотором смысле результирующая теория права конечно будет оценочно. Тем не менее, как показано выше, предписывающие теории стремятся ответить на вопрос, отличный от теорий в концептуальный анализ, редуктивные или интерпретирующие категории.Таким образом, что значение для дебатов о том, является ли теория права оценочной, не может ли теория права в принципе быть оценочной, но неизбежно или обязательно так.
Теперь мы в состоянии полностью оценить вопрос о первичном интерес сюда. В частности, это вопрос о том, являются ли теории о природе существующей юридической практики (или, возможно, нашего представления о ней) обязательно включают или влекут за собой толстых оценочных требований о законе. Тот то есть, предлагает ли теорию права первого порядка либо концептуальную анализа, редуктивной или конструктивной интерпретации требуют разновидности тот, кто принимает утверждения о том, насколько ценен закон или какая-либо его черта, является? Это вопрос, который будет обсуждаться в оставшейся части этого Вход.
2.2.2 Является ли правовая теория оценочной в соответствующем смысле?
Некоторые ответы на вопрос, который обсуждался в разделе 2.1, предполагают, что теории права по своей сути оценочны в смысле совершения сторонники этих теорий к толстым оценочным утверждениям о законе. Как мы увидим, это наиболее правдоподобно в случае конструктивного интерпретация методологии. Напротив, другие ответы на вопрос, обсуждаемый в разделе 2.1, не влечет за собой, очевидно, Юридические теории первого порядка обязывают своих сторонников претензии.В частности, это касается концептуального анализа и редуктивные взгляды на методологию юриспруденции. По крайней мере, на их лице, обе эти точки зрения, кажется, допускают, что могут быть чисто описательные отчеты о праве, т. е. отчеты, которые фиксируют центральную особенности права, не будучи приверженным какой-либо моральной или всесторонняя оценка закона. Ведь можно подумать что конкретная учетная запись хорошо справляется с захватом некоторых широко общее понятие права, но это, очевидно, не обязывает говорить этот закон, при таком его понятии, хорош .Точно так же можно одобряют сведение юридических фактов к какому-то более фундаментальному набору факты (например, определенные социальные факты), не совершая при этом думать, что закон ценен или морально оправдан.
В результате, по крайней мере на первый взгляд, как концептуальный анализ а редуктивные взгляды, по-видимому, допускают существование первого порядка теории права, носящие чисто описательный характер. Какой-то аргумент будет необходимо, если кто-то хочет поддержать противоположный вывод. Соответственно пусть Рассмотрим некоторые выдающиеся аргументы в пользу того, что теория права должны носить оценочный характер.(Для обзора см. Marmor 2011, 122–35.)
Аргумент от юридических функций
Один из центральных аргументов в пользу того, что теория права должна оценочное в соответствующем смысле начинается с идеи, что понимание того, что такое закон , требует взгляда на какие функции он выполняет (Finnis 1980, 12–17; Perry 1995, 114–20). Более того, можно подумать, что функции оценочный в том смысле, что приписывание функции чему-либо означает утвердить стандарт, по которому эта вещь может быть оценена как успешная или неудачный.Таким образом, можно было бы подумать, что теория права тоже по своей сути оценочный.
Хотя этот ход мыслей правдоподобно показывает, что теория права требует принимая некоторые оценочные утверждения, это явно не показывает, что теория права обязательно включает толстых оценочных утверждений (Диксон 2001, 114–125). Утверждения вида «функция из \(X\) есть \(F\)” естественным образом классифицируются вместе с «\(X\) важен» (или, точнее, «\(X\) важен». важно для какой-то цели \(Y\)”) как тонкий оценочный претензии.Соответственно, утверждение, что функция права есть \(F\), не явно не влечет за собой каких-либо толстых оценочных требований к праву. После всего, не очевидно, почему приписывание функции чему-то требует полагая, что выполнение этой функции либо все взвешенно или морально хорошо . Таким образом, приписывая функция закона не обязательно должна влечь за собой какие-либо толстые оценочные требования.
Аргумент с внутренней точки зрения
Второй естественный аргумент в пользу того, чтобы рассматривать теорию права как по своей сути оценочный в соответствующем смысле опирается на идею о том, что любой Адекватная теория права должна учитывать внутреннюю точку зрения которые практикующие юристы склонны принимать по отношению к закону.Более в частности, принятие внутренней точки зрения по отношению к закону является вопрос принятия некоторого отношения одобрения к нему, рассматривая это как в некотором смысле оправданное или как обосновывающее действие (Шапиро 2011, 96–97; Перри 1995, 99–100; см. также запись о юридический позитивизм). Более того, принято считать, что критическая масса участники юридической практики должны принять внутреннюю точку зрения к практике, чтобы практика действительно считалась закон.Это факт, который должна учитывать любая адекватная теория права. можно подумать. Соответственно, поскольку внутренняя точка зрения предполагает положительную оценку права, а поскольку любая адекватная правовая теория должны учитывать эту точку зрения, можно сделать вывод, что любое адекватное теория права сама по себе должна быть оценочной. (Находят версии такого аргумента, например, у Perry 1995, 121–25; Уолдрон 2001, 423–28.)
Однако неясно, удастся ли этот аргумент. Ведь это кажется в принципе возможным объяснить, какие соображения практикующие юристы одобряют, а почему без себя подтверждая эти соображения.Точно так же правовая теория первого порядка могли бы правдоподобно объяснить трюизм, который практикующие юристы склонны придерживаться внутренней точки зрения (т. е. одобрять) закон в их соответствующих юрисдикциях без теории тем самым будучи приверженным утверждению, что закон в любом конкретном юрисдикция (или закон в целом) является ценным или оправданным. Соответственно, не очевидно, почему теория права в принципе не может отразить внутреннюю точку зрения практикующих юристов на закон, не будучи приверженным каким-либо толстым оценочным претензиям о законе.
Аргумент от интерпретации
Возможно, это самый влиятельный аргумент в пользу того, что правовая теория по своей сути оценочный исходит из идеи о том, что теория права попытка интерпретации в смысле Дворкина (Dworkin 1986; для критика, см. Dickson 2001, 105; Мармор 2011, 126–30). Сказать что правовая теория является интерпретативным проектом, означает утверждать, что полностью понимание того, что такое закон , требует истолкования его как в лучшем случае это может быть то, что есть.Более того, один может подумать, что для того, чтобы истолковать юридическую практику как наилучшую пример такой вещи, которая требует сделать толстым оценочные требования к закону. (Смотри запись на юридический интерпретаторизм.)
Можно попытаться ответить на этот аргумент двумя способами. А естественный, хотя в конечном счете и безуспешный, ответ состоит в том, что истолкование что-то как лучший экземпляр в своем роде, что может быть не требуют, чтобы этот вид был хорошим . Сказать, что Берни Мэдофф был (какое-то время) лучшим мошенником в истории, не влечет за собой этого одобряет мошенничество.В результате, говоря, что закон должен быть таким-то и таким-то для того, чтобы быть хорошим экземпляром в своем роде, не обязывает ни к какому толстые оценочные претензии. Тем не менее, существует более глубокая или более интересный смысл, в котором точка зрения Дворкина делает правовую теорию по своей сути оценочный. Для Дворкина правовая теория — интерпретационная предприятия и предлагать конструктивную интерпретацию правовых практика требует толковать его в его лучшем нравственном свете . Таким образом, интерпретация юридической практики потребует стоять на том, какой из доступных способов истолкования этой практики морально лучше других.Конечно, это не обязательно требуют утверждения, что закон при любом конкретном истолковании является хорошо — точка. Но, кажется, требуется по крайней мере говоря, что некоторые истолкования юридической практики морально лучше , чем другие конструкции. Это похоже на толстая оценочная претензия, хотя и сравнительная. Более того, нельзя делать такие сравнительные суждения, не имея представления о том, что сделать одну интерпретацию юридической практики морально лучше другой.Таким образом, по крайней мере в этом смысле, рассматривая теорию права как деятельность, интерпретация в смысле Дворкина сделала бы юридическую теорию по своей сути оценочный в том смысле, который нас здесь интересует.
Соответственно, если кто-то хочет сохранить возможность чисто описательные юридические теории первого порядка, более многообещающая стратегия для ответ на аргумент интерпретации означал бы вопрос о его ключевая посылка, а именно, что теория права обязательно является Интерпретативное усилие в смысле Дворкина.Для того, чтобы сторонник аргумента от интерпретации для утверждения этой посылки, для этого должно быть дано какое-то обоснование. То есть какой-то аргумент было бы необходимо, чтобы объяснить, почему мы должны думать, что понимание закон требует дать конструктивный толкование его. Критик аргумента от интерпретации, то может заявить, что сторонники аргумента не их бремя предоставления обоснования этой предпосылки, на которой аргумент принципиально зависит.
Одно из возможных обоснований, которое можно предложить здесь, состоит в том, что, поскольку социальные практики в основном включают в себя общение и понимание любая форма общения обязательно включает в себя интерпретацию претензии спикеров, понимание социальной практики права обязательно предполагает его интерпретацию.Однако это обоснование слишком быстрый. Даже если верно, что понимание любой социальной практики требует интерпретации того или иного , это не следует, что для этого требуется конструктивная интерпретация в смысл Дворкина — т. е. определение истолкования практики, которая представляет ее в лучшем нравственном свете (Marmor 2011, 127–28). Но последнее утверждение, конечно, принадлежит сторонникам аргумент от толкования необходимо установить, чтобы достичь их желаемый вывод о том, что теория права по своей сути оценочна.
Соответственно, мы, кажется, остались в следующем диалектическом ситуация. Является ли правовая теория по своей сути оценочной в соответствующий смысл зависит от того, является ли аргумент от интерпретации удается. Успех этого аргумента, в свою очередь, зависит от его ключа. посылка, т. е. утверждение, что понимание закона обязательно требует дать конструктивную интерпретацию этого. Если аргумент, не вызывающий вопросов, может быть приведен для этого утверждения, тогда было бы основанием думать, что теория права обязательно является оценочной в природа.Напротив, если нельзя привести аргумент, не вызывающий вопросов, думать, что понимание закона требует конструктивного интерпретации, то можно было бы свободно утверждать, что может быть чисто описательные юридические теории первого порядка.
Конечно, даже если аргумент от интерпретации терпит неудачу и чисто дескриптивные юридические теории остаются возможными , все еще может быть достойный проект, чтобы попытаться дать конструктивную интерпретацию юридической практики, и результатом этого проекта действительно будет частично оценочная теория.Тем не менее, эти два типа теории действительно не будет конфликтовать, поскольку они будут адресованы отвечая на разные вопросы. В итоге, следовательно, «методологический плюрализм» может быть наиболее подходящим характеристика состояния дел в юриспруденции.
Закон и мораль
Закон и мораль слишком расплывчаты, чтобы их можно было понять. Здесь следует добавить, что понятия закона и справедливости не могут быть схвачены и представлены перед нами в нескольких предложениях. Эти понятия настолько обширны, что даже слов недостаточно для их определения.
В общем виде мораль — это качество соответствия стандартам правильного или неправильного поведения. Мораль говорит о системе поведения в отношении стандартов правильного или неправильного. Это слово несет в себе понятия: (1) моральных стандартов в отношении поведения; (2) моральная ответственность, относящаяся к нашей совести; и (3) моральная идентичность, или тот, кто способен на правильные или неправильные действия. Нравственность стала сложной проблемой в мультикультурном мире, в котором мы живем сегодня.Вневременная мудрость объясняет, что не может быть полного закона, если в нем не содержится следствия и включения морали. Мой проект исследует концепцию морали Мура и то, как он объясняет ее влияние на наше поведение, нашу совесть, наше общество и нашу конечную судьбу.
Закон и мораль слишком расплывчаты, чтобы их можно было понять. Здесь следует добавить, что понятия закона и справедливости не могут быть схвачены и представлены перед нами в нескольких предложениях. Эти понятия настолько обширны, что даже слов недостаточно для их определения.Многие юристы от древнегреческого периода до современной и даже постмодернистской эпохи неоднократно пытались дать определение этим понятиям, но потерпели неудачу. Одной из причин может быть то, что корни этих понятий лежат где-то внутри человеческой психики, которая крайне случайна и разнопланова. Ну и требуется описать постулаты двух основных школ права.
Юридический позитивизм:-
Начало девятнадцатого века можно считать началом позитивистского движения.Термин позитивизм имеет много значений, которые сведены в таблицу профессором Х.Л.А. Харт следующим образом:
1. Законы команды. Это значение связано с двумя основателями британского позитивизма, Бентамом и его учеником Джоном Остином,
2. Анализ правовых понятий:
* стоит заниматься
* отличается от социологических и исторических исследований,
* отличается от критической оценки,
3. Решения могут быть логически выведены из заранее определенных правил без обращения к социальным целям, политике и морали,
4.Моральные суждения не могут быть установлены или защищены с помощью рациональных аргументов, свидетельств или доказательств,
5. Закон, как он фактически установлен, positum, должен храниться отдельно от закона, который должен быть.
У школы позитивного права есть свои основные столпы, такие как Джерми Бентам, Джон Остин, профессор H.L.A. Харт, Келсон. На самом деле позитивизм вырос из пепла возрождения в Европе. Следовательно, это либеральная мысль или либеральная идеология, главная цель которой состоит в том, чтобы провести позитивные реформы в обществе через инструмент государства, а не через духовенство.Позитивизм представляет собой интеллектуальную реакцию против натурализма и любовь к порядку и точности.
Получив краткое представление о юридическом позитивизме, мы должны перейти к школе естественного права.
Школа естественного права: –
Термин «естественное право», как и позитивизм, по-разному применялся разными людьми в разное время.
1. Идеи, которые определяют правовое развитие и управление.
2. Основное нравственное качество в праве, препятствующее полному отделению «есть» от «должно».
3. Метод открытия совершенного закона.
4. Содержание совершенного закона, выводимого разумом.
5. Условия sine quibus non существования права4.
К вопросу о том, как право связано с моралью, лучше всего подойти через судебное обязательство, которое обязывает судей в их роли судей, а затем рассмотреть, как судьи должны использовать мораль в своем решении спорных правовых дел? Как правильно должна мораль входить в судебные решения.
Идея понять судебную аргументацию заключается в рассмотрении «очевидного закона».Это можно понять с помощью некоторых примеров, которые он приводит. Когда закон предоставляет опеку над несовершеннолетними детьми родителю, это, скорее всего, отвечает наилучшим интересам ребенка, предоставляйте гражданство только тем заявителям, которые обладают хорошими моральными качествами, депортируйте тех, кто осужден за преступления против нравственности. Это показывает, что судьи в правовых системах с очевидным законом, таких как наша, должны принимать какие-то моральные решения, чтобы применять такие законы к рассматриваемым им делам.
Поддерживая силу государства, они принуждают людей отказываться от своих денег, свободы и жизни.Такое принуждение требует оправдания, которым, конечно же, является (очевидный) закон, который устанавливает определенные доктрины верховенства законодательства и запрета на преступления по общему праву. Некоторые политические идеалы, такие как демократия, разделение властей и верховенство права, делают эти доктрины источником судебных обязательств.
Школа естественного права господствовала до девятнадцатого века, начиная с древнегреческого периода. Школа естественного права обсуждала, что такое право и т. д., но никогда не обсуждала право как эмпирическую формулу и никогда не проводила строгого разделения между тем, что такое право, и тем, чем право должно быть.Мыслители естественного права, говоря о праве, говорят о законе, созданном человеческим разумом сознательно, в отличие от закона, созданного в результате отсутствия в нравственности сознательного элемента. Мышление естественного закона в той или иной форме широко распространено и встречается в различных контекстах. Ценности, например, как уже отмечалось, играют незаменимую роль в развитии и повседневном применении права. В другой сфере теория естественного права пыталась удовлетворить первостепенные потребности последовательных эпох в истории, и было дано описание способов, которыми она поддерживала власть или свободу от власти в соответствии с социальными потребностями того времени.Дальнейшая школа естественного права предлагает косвенную помощь в решении двух современных проблем, а именно злоупотребления властью и злоупотребления свободой.
Позитивизм, с другой стороны, стремясь изолировать теорию права от таких соображений, отказывается дать бой там, где он необходим, возможно, разумно, возможно, к собственной дискредитации, в зависимости от точки зрения. Мыслители естественного права всегда считали принципы морали высшим законом, и они смотрели на закон, созданный человеком, с презрением и насмешкой.Закон и мораль всегда противоречили друг другу. Позитивисты во главе с Бентамом и Остином намеренно выводят справедливость и мораль из сферы действия правовой системы. Их формалистическая позиция касается права как такового, а не права таким, каким оно должно быть. Они подчеркивают право с точки зрения источника и реализации. Таким образом, система естественного права зависит от стандартов и мерок морали для формулирования любого закона, тогда как позитивистская система права зависит от сознательной и преднамеренной попытки законотворчества.
Мораль и наше поведение
Мы постоянно говорим о законе и морали, поэтому дайте нам знать значение этих двух понятий. Право – это постоянно развивающаяся норма, или, скорее, мы должны сказать, что оно является частью нормативной системы, работа которой заключается в регулировании определенных норм в обществе. Он динамичен и никогда ни в какой момент времени не остается статичным. Закон должен время от времени меняться в соответствии с постоянно меняющимися требованиями общества. Закон не существует для собственного штата
. Он должен достичь определенных целей, которые могут быть краткосрочными или долгосрочными.Право направлено на создание порядка в обществе (во всех ячейках общества). Закон пытается создать рабочую среду, одинаково справедливую для всех слоев общества. С другой стороны, существует расплывчатое понятие морали, которая является искомой нормой или частью нормативной системы. Мораль на самом деле является определенным критерием в нашем обществе, который работает как предписание человеческого поведения. Проповедь морали начинается с самой основной ячейки нашего общества – семьи. Как и в индуистской семье, молодые люди касаются ног старших, чтобы пожелать им.За этой моралью нет никакой логики, но тем не менее эта мораль господствует в нашем обществе. Это полностью собственная частная практика, в которую закон не должен вмешиваться. Мораль может быть той, которая оказывает негативное влияние на общество, и другой, которая может принести пользу обществу. Закон или мораль оба являются нормативными системами нашего общества, поскольку оба нормативны и институционализированы по своей природе. Единственная разница между правом и моралью состоит в том, что закон по своей природе принудительен, а мораль — нет. Право осуществляется принуждением, и его постоянное применение в обществе приводит к интериоризации закона в душе человека.Первоначально закон дает только внешнее поведение или явный эффект, но с течением времени принудительное подчинение законам принимает форму интернализованной реализации привычного подчинения. Например, правила дорожного движения, когда они применяются в обществе, через определенное время интернализируются в поведении гражданина7.
Закон имеет принудительную поддержку, которая действует через институты. Таким образом, идея санкции, что кто-то будет наказан Богом, как это годами пропагандируется религией и так называемыми исполнителями морали, стала очень расплывчатой.Вот почему религия и мораль стали распущенными и неэффективными. Итак, конституционализм вышел на передний план. Я доказываю это свое положение следующим примером нашего современного общества. Сегодня в нашем нынешнем обществе мораль и религия сталкиваются с вызовами, выдвигаемыми технологиями, быстрой городской жизнью, секуляризмом, равенством перед законом, демократией и конституционализмом.
Так как сегодня люди воспитаны в либеральной атмосфере, мы способны мыслить самостоятельно, мы знаем разницу между правильным и неправильным, правдой и ложью.Так, как и в более раннем обществе, можно было создать в сознании людей фактор легкого страха перед именем бога. Это столкновение неизбежно, так как люди сейчас не подвластны чьим-либо прихотям и фантазиям, каким-либо религиозным или моральным санкциям, а способны принимать собственные свободные решения. Когда пытаешься проанализировать различие между правом и моралью, смутно чувствуешь, что право каким-то образом связано с разумом и совестью. Следовательно, закон имеет свойство обязательности, тогда как мораль имеет свойство обязательности.
Великий юрист утверждает, что сила необходима для управления человеческим поведением, потому что человечество в целом не управляется разумом. Если каждый мыслит разумно и действует рационально, нет необходимости связывать свое поведение. Но исторический опыт не дает четких доказательств такого рационального поведения, и поэтому идея права развивалась на предположении, что необходимо принуждать поведение индивидов в определенном направлении для достижения определенных конкретных целей.Справедливость и совесть кажутся личными и индивидуалистическими. Следовательно, ни к какому заказу не может быть привязана система. Следовательно, в любой момент истории любой социальной организации признают правовую систему, но не могут определить местонахождение такой системы справедливости или морали.
Важное значение приобретает осмысление того, что судьи должны делать в качестве судей. Это можно сделать, установив, соблюдают ли судьи при исполнении своих обязанностей закон. Мур обсуждает здесь идеи юридических позитивистов.Они признают, что судьи должны руководствоваться такими встроенными моральными стандартами, но отрицают, что такие стандарты являются частью закона, что вызывает аналогию. Точно так же в случаях, когда очевидный закон не определен, позитивист советует судьям обратиться к морали, потому что в таких случаях нет закона. Когда судья своим решением издает какой-либо закон, принятый закон может быть нравственно правильным, но он все же будет законом только потому, что его установил судья, а не потому, что он нравственно верен. С другой стороны, естественный юрист отрицает как то, что очевидный закон есть весь закон, так и то, что «очевидный закон» на самом деле всегда является законом.Согласно этой школе мысли, в законе должно быть включение морали. Таким образом, мы сталкиваемся с неочевидным концептуальным выбором.
Мораль описывает принципы, которые управляют нашим поведением. Без этих принципов общества не могут существовать долго. В современном мире мораль часто считается принадлежащей к определенной религиозной точке зрения, но по определению мы видим, что это не так. Каждый придерживается какой-либо моральной доктрины, чтобы обеспечить честную игру и гармонию между людьми; (2) помочь нам стать хорошими людьми, чтобы у нас было хорошее общество; и (3) поддерживать хорошие отношения с силой, создавшей нас.Если мы не живем в диктаторском обществе, мы вольны выбирать свой собственный моральный кодекс. Вопрос в том, что происходит, когда наши решения противоречат друг другу? Если у нас нет абсолютного стандарта истины, результатом будут хаос и конфликты, поскольку мы все предоставлены самим себе и своим желаниям.
Мораль и закон
Кажется, что между законом и моралью нет различия. Греческие писатели, цитирует он, предполагают, что хороший человек — это тот, кто делает то, что законно. Именно законодатели в этих ранних обществах определяют, что правильно, а что нет.То, что должно быть законным, примерно соответствует тому, что действительно правильно или справедливо, то есть тому, что мы назвали бы морально правильным. Мы находим, например, различие между тем, что является правильным с точки зрения закона или условности, и тем, что является естественным или моральным. Иногда это выражается как противопоставление того, что велят боги (т. е. нравственно правильно), и того, что велят политические власти (т. е. юридически правильно). Знание того, что справедливо или нравственно, и способность отличать истинную справедливость или нравственность от того, что просто кажется справедливым, зависят от полного развития и использования человеческого разума.
Переход от отношения нравственности к закону, обязывающему судей, к отношению нравственности к содержанию того, что должно быть правом в либеральном, демократическом государстве. Таким образом, он переходит от судебной роли к законодательной роли. Законодателям не меньше, чем судьям, нужна теория их роли, теория о том, что является и не является надлежащими целями, которые следует искать в законодательстве. Законодатель должен просто точно представлять взгляды своих избирателей, какими бы они ни были в отношении нового закона, который предлагается принять.Но где мы находим теорию надлежащих законодательных целей? Очевидный ответ для Мура — «мораль». Там, где нет очевидного закона, доступного судье, речь идет о морали.
Милль считал, что одной из целей, запрещенных для законодателей в условиях либеральной демократии, является установление морали. Надлежащим было только законодательство, направленное на предотвращение поведения, причиняющего вред другим; законодательство, направленное на поощрение нравственности, осуждалось так же, как и патерналистски мотивированное законодательство.Например: государство не должно навязывать или поощрять какие-либо моральные представления о хорошей жизни; или государство должно воздерживаться от законодательства по вопросам морали, если нет дублирующего консенсуса; или государство должно только обеспечить справедливую основу, в которой могут конкурировать различные моральные взгляды; и т.д.
Критика Милля и этих постмиллианских либерализмов очень проста. Если что-то морально хорошо, это дает каждому из нас повод способствовать его достижению. Это относится как к законодателям, так и ко всем остальным.Если можно принять законы, содействующие справедливости, то есть веская причина для принятия таких законов. Насколько они либеральны, зависит от структуры морали, которую они хотели бы превратить в закон. Если эта мораль содержит такие элементы, как общее право на свободу, то законодатель-моралист должен уважать и эту часть морали. Принцип вреда Милля не является ограничением надлежащей законодательной цели, а является теорией того, когда поведение является морально неправильным. В большинстве случаев причинение вреда другим без их согласия является нравственно неправильным, и наиболее серьезные аморальные проступки состоят в причинении такого вреда.По словам Мура, Остин был прав, когда считал, что мы должны узаконить мораль. Закон, который мы должны иметь, должен быть настолько близок к нравственно правильному, насколько это возможно. Но Мура здесь можно критиковать, когда он поддерживает законодательство о морали, что практически невозможно.
Как мораль связана с законом, который мы должны иметь?
Скорее всего, потому что справедливость и бессовестность есть переживания и интуиции ума. Мы не можем думать о внешней системе, регулирующей деятельность ума.Напротив, человеческое поведение по своей рудиментарной природе является физическим и поверхностным. Таким образом, правовая система может найти методологию, чтобы направлять ее, направлять или даже управлять ею. поэтому правовая система, имеющая правила и положения в отношении торговли, коммерции, финансов и занятости, будет иметь большой успех, потому что, по мнению автора, существуют области, в которых человеческое поведение физически; желательно. В этих областях внешняя сила, закон является такой внешней силой, системой в более широком смысле физической.Кроме того, возможен внешний элемент принятия решений, вынесения судебного решения, администрирования или даже контроля. С другой стороны, определение морали или понятие морали меняется от человека к человеку. Может быть, что для меня мораль, то для вас не мораль. Например, просмотр порносайтов в обществе, существующем на Индийском субконтиненте, не считается моральным актом, но просмотр одного и того же порносайта считается разборчивым и удобно приемлемым в европейском и американском обществах.
Если мы посмотрим на форму и содержание права, то обнаружим, что правовая норма может быть общей с религиозной и моральной нормой. Например, все религиозные и моральные нормы говорят не убивать и не бить сталью, то же самое и здесь, в законе. Итак, мы имеем почти одинаковое содержание между правом и моралью. Тогда возникает вопрос, а если это так, то в чем разница между правом и моралью? Ответ заключается в том, что правовая система отличается от религии и морали формой, а не содержанием.
Право находится под влиянием как религии, так и морали, и, следовательно, имеет место стремление к взаимодействию между правовой системой и моральными и религиозными способностями нашего общества. В традиционном обществе законы никогда не имели доминирующего характера, но религия и мораль всегда играли весьма преобладающую роль.
Но в современном обществе жизнь меняется очень быстро, поэтому мораль и религия находятся под большим давлением.
Следовательно, закон — единственный.
альтернатива человеческому развитию.В многоконфессиональном, либеральном и многообщинном обществе закон может работать только беспристрастно и эффективно. Величайшими примерами являются крупнейшие демократии мира. Чтобы быть более конкретным и иллюстративным, я хотел бы привести пример Индии, США, Англии, Франции и т. д., которые успешно установили преднамеренный и сознательный способ законотворчества посредством конституционализма, и это делается из вековых монархических и религиозная мораль. В России до большевистской революции 1917 года нравственность широких масс заключалась в том, что царь имеет божественную власть над ними.Законы использовались для обеспечения соблюдения таких моральных норм, но после длительного периода эксплуатации массовая революция разразилась в 1917 году, и, наконец, отрицательные последствия морали были низвергнуты, и был установлен конституционный строй. То же самое произошло во время Французской революции. В Индии в древний ведический период общепринятой моралью было то, что общество было неравноправным и, следовательно, росла кастовая система и неприкасаемость. Этот нравственный стандарт получил институциональную форму права. Но после обретения независимости в 1947 году мы прекратили юридическое применение такой незаконной морали.
Отвечает ли закон за соблюдение религии и морали?
Порнография, проституция, гомосексуальность и т. д. являются сферами собственного сознания и, следовательно, являются сферой конфликта, который продолжается до сих пор. Итак, имеет ли право право вмешиваться в религиозные и нравственные чувства людей? Например, в нашем индийском обществе существует моральное представление о том, что браки по любви или межкастовые браки недостаточно осуществимы и, следовательно, не должны иметь место. Рассмотрим утверждение, что гомосексуальность аморален.Я категорически не согласен. Теперь, что В споре между большинством законодателей штата и мной и теми, кто согласен со мной, какие привилегии законодательные суждения о морали. В чем они являются экспертами? Как избрание в законодательный орган дает им право выносить такие суждения. Проводят ли они слушания о морали гомосексуализма и аргументируют свои выводы. Или они просто нажимают кнопку и регистрируют свой голос. Самое главное, как мы можем оценить достоинства их претензии.Если мы не можем, то на самом деле они могут запрещать что хотят (и по какой причине хотят). Какой бы объективной ни была мораль, любая подобная доктрина конституционного права является рецептом тирании. Возьмем вопрос о живых отношениях, который несет на себе моральный запрет. Я не понимаю, что если два крупных индивидуума с их добровольным согласием решат жить вместе, то тут встает вопрос о нарушении каких-либо рациональных норм. Это показывает, что моральные нормы никогда не бывают рациональными по своему действию13.
Теперь я задаю вопрос, должен ли быть принят закон для обеспечения соблюдения таких моральных норм. Не противоречит ли такой закон конституционным принципам свободы и свободы.
Юридические позитивисты, такие как Бентам, Остин, Келсон, всегда говорили, что закон никогда не должен использоваться как инструмент принуждения к каким-либо моральным нормам. Поэтому, поскольку не видно ума и совести, элементы морали становятся слабыми и не поддающимися определению. Но закон удобен, автор снова утверждает, что он только удобен; он выдержал испытание временем.В любое конкретное время, в любой ситуации право становится методом установления определенного ожидаемого социального поведения. Мораль может быть для просвещения и облегчит индивидуальное прочтение. Поэтому автор статьи считает и предполагает, что, поскольку принуждения и стремления влияют на жизнь, правовая система должна состоять из принципов удобства и осуществимости, тогда как мораль должна быть предоставлена индивидуальной свободе и практике. Юридическое обеспечение соблюдения этих нравов, оказывающих негативное влияние на рост нашего общества, никогда не должно определяться.Недавно один пастор сообщил своей пастве, что христиане больше не могут навязывать свои моральные ценности обществу, которое не принимает христианство. По крайней мере, вторая часть утверждения совершенно неверна. В то время как членство и посещаемость церкви резко сократились, исследование ценностей австралийского народа Роя Моргана показывает, что 80% верят в Бога.
Должны ли христиане стремиться навязать свои моральные ценности закону и обществу. Некоторые настойчиво и настойчиво утверждают, что христианские ценности должны быть исключены из закона, общества и политики.Гарет Эванс (ныне сенатор Эванс) сообщается в «Сидней Морнинг Геральд» от 7 мая 1976 года, что на съезде Совета по гражданским свободам Южной Австралии он заявил, что дети хотят иметь право на сексуальную свободу и образование, а также «защиту от влияния Христианство
В той же статье упоминается мистер Ричард Невилл (известный из страны Оз), который утверждает, что «беспорядочные половые связи — это один из полезных способов разрушить семейную структуру, из-за которой дети стали собственностью своих родителей.Закон не может быть инструментом выражения моральных норм, скорее, закон должен быть независимым от всех искомых моральных догм, за исключением некоторых областей, в которых право доминирует над моралью. например Правовые области, такие как законы о бизнесе, кибер-законы, налоговые законы, законы о компаниях, торговые законы и т. д., являются исключительно юридическим трактатом, и мораль не имеет ничего общего с законом в таких областях. Возьмем исторический пример СИТА, чей фундаментальный и моральный инстинкт превратил его в ПИТА.
Но, с другой стороны, мы никогда не можем отрицать, что главное содержание права вытекает из содержания морали.Подобно этому уголовное право является продуктом моральных представлений. Например, все религиозные и моральные нормы говорят не убивать и не бить сталью, то же самое и здесь, в законе. Итак, мы имеем почти одинаковое содержание между правом и моралью. Позитивные мыслители мыслили в узком толковании закона, потому что они упускали из виду религиозные и моральные ценности.
На самом деле убедительная ситуация такова, что религия, мораль или закон — все они контролируют поведение людей в нашем обществе, поэтому мы не должны исключать важность морали в нашем обществе.В случае международного гуманитарного права некоторые моральные нормы также признаются частью права. Итак, абсолютное разделение права и морали невозможно в тех сферах, где мораль производит положительный эффект в обществе, который носит перспективный характер.
Между правом и моралью существует довольно тесная связь. Хотя люди иногда говорят, что «вы не должны издавать законы о морали», на самом деле они, по-видимому, не имеют в виду это — зачем нам запрещать изнасилования и убийства, если они не ошибаются? Вместо этого, я полагаю, они имеют в виду, что люди не должны навязывать свои личные моральные взгляды (особенно в отношении сексуальности) другим.Я бы согласился с этим мнением, хотя моя причина именно в том, что я считаю, что законодательство должно быть основано на моральных принципах, а рассматриваемые «моральные взгляды» полностью ошибочны.
Небольшое отступление: очень жаль, что слово «мораль» стало ассоциироваться с консервативными ценностями, ибо очевидная несостоятельность этих ценностей для многих людей бросает тень на их отношение к морали в целом. И это чертовски стыдно. Когда консервативные группы выступают за фанатизм, маскирующийся под «семейные ценности», мы должны признать несправедливость этого и вместо этого отстаивать то, что правильно.Но я отвлекся — это не пост о том, как либералам нужно восстановить моральное превосходство.
Итак, мы признаем, что существует связь между законом и моралью, но какая это связь. Их домены явно не полностью идентичны – например, лгать своим родителям может быть неправильно, но это, безусловно, не является делом закона. Возможно, лучший способ объяснить это — признать, что закон — чрезвычайно грубый инструмент, и поэтому он не поможет при решении незначительных или тонких моральных вопросов.
Но даже если какая-то мораль выходит за рамки Закона, может ли область Закона быть подмножеством Морали? То есть должны ли мы когда-либо запрещать только аморальные поступки и никогда — морально допустимые?
Я хотел бы сказать «да», так как это кажется хорошим принципом. Но не могу, потому что это противоречит моей позиции по некоторым другим вопросам. То есть, я думаю, что мораль по своей природе чисто «уважительна к другим», и простое причинение вреда себе (например, курение наедине) не является аморальным. С другой стороны, ранее я предполагал, что государственный патернализм может быть приемлемым.
Чтобы подойти к этой теме с несколько иной точки зрения, интригующее предположение, что мы понимаем право и мораль в терминах психологической теории веры-желания. Эта теория утверждает, что любое человеческое действие можно объяснить исключительно с точки зрения убеждений и желаний агента. Например, если я включаю обогреватель, это может быть потому, что я хочу согреться, и я верю, что включение обогревателя поможет достичь этой цели. Чтобы применить это к нашей текущей теме, подумайте, как общество может влиять на действия своих членов.Согласно психологии убеждений и желаний, есть два общих варианта: изменить чьи-то убеждения или изменить их желания.
Мораль в этом понимании соответствует последнему варианту. То есть мораль есть система социализации, посредством которой общество прививает своим членам стремление определенным образом.
Другой метод влияния — изменить убеждения людей о том, как лучше всего исполнить их желания. Вот тут-то и появляется Закон. Его роль (согласно этой интерпретации) состоит в том, чтобы служить сдерживающим фактором для тех, кто по какой-либо причине не может быть связан моралью.Достигается это угрозой наказания, т. е. внушением гражданам веры в то, что нарушение закона не в их интересах — их могут поймать и посадить в тюрьму, что, несомненно, помешает многим другим их желаниям.
Должна ли реальная или общепринятая мораль быть частью закона?
Далее мы обсуждаем здесь метаэтический вопрос: является ли «есть и должно», которое должно быть частью закона, реальной или условной морали? Так ли это, что моральные убеждения, разделяемые гражданами, являются нравами нашего общества? Или это то, что некоторые называют «критической моралью», а Мур называет реальной (или правильной) моралью? Второй вопрос — это по существу этический вопрос: утилитарна ли эта мораль, включающая в себя справедливость как нечто, что должно быть максимизировано?
Мур рассматривает первый выпуск здесь и второй в следующем разделе.Он предполагает, что метаэтический релятивизм ложен. Аргумент в пользу использования общепринятых моральных убеждений, которые его интересуют, исходит не из необходимости, а из желательности. Идея состоит в том, что правильно обращаться к популярным, общепринятым моральным убеждениям, когда в законе возникают вопросы морали. Это, по крайней мере, форма заключения.
1. Предполагаемая мудрость многих
У каждого человека есть несколько твердых моральных убеждений. Возможно ли, что они могут сделать эти убеждения сомнительными, потому что многие другие не согласны с ними? Если истину в морали действительно так трудно достичь, то зачем полагаться на других, которые, конечно же, такие же запутанные, как и вы? Есть еще один аргумент в пользу использования конвенциональной морали в праве, но он отличается и заслуживает отдельного упоминания.Это идея о том, что, возможно, общепринятая мораль является хорошей эвристикой истинной морали. Например, действительно ли конкретный убийца заслуживает смерти. В этом случае мы используем общепринятую мораль не потому, что она более верна, а потому, что размышления об общепринятой морали приводят нас к нашим собственным лучшим представлениям о том, чего требует истинная мораль.
Возможно, несколько более правдоподобным является почтение, основанное не на том факте, что конвенциональные моральные убеждения правильны, а на том, что они конвенциональны, т.е.д., они таковы, как думает большинство людей. Социальный мир и гармония стоят того, чтобы жить в соответствии с неправильными моральными убеждениями. В Законе мы должны были представить эти идеалы демократии и «мира любой ценой», которые убеждают использовать традиционную мораль всякий раз, когда мораль входит в закон. Этот конвенционалистский юридический морализм означал бы, что не существует принципиальных ограничений для того, что может быть узаконено большинством. Лорд Девлин показал нам это в своих дебатах с Гербертом Хартом в 1960-х годах. Увидев это, легко понять, почему Милль считал, что ему следует выступать как против юридического морализма, так и против юридического патернализма.Милль воспринял это как пример юридического морализма, делающего свое пагубное дело. Но что, если Милль считал полигамию глубоко аморальной, возможно, подобно женскому обрезанию в некоторых африканских племенах? Разве его возмущение не было бы устранено — потому что тогда американцы устанавливали бы истинную мораль, а не (в значительной степени неправильную) общепринятую мораль о сексе. Милль, несомненно, считал (как и Мур), что полигамия не имеет большого значения с моральной точки зрения, и поэтому использование принудительной силы закона для ее искоренения было неоправданным.В этом случае реальной целью Милля было использование общепринятой морали в качестве основы законодательства, а не использование морали как таковой. _____________________________________________________________________________
2. В законе, который у нас есть
Теперь обратимся к морали в законе, который у нас есть, законе, который обязывает судей выполнять их роли судей. Как мы видели, существует несколько способов, посредством которых мораль входит в имеющийся у нас закон, и давайте рассмотрим, как это выглядит, если мы включим в них условную мораль.
Явное включение моральных стандартов в юридические стандарты.
Сначала рассмотрим конституционное дело. Как отмечалось ранее, Конституция США прямо требует, чтобы судьи выносили моральные суждения, поскольку они обладают «большой властью» судебного надзора. Несмотря на риторику многих мнений Верховного суда о том, что судьи должны руководствоваться «канонами приличия и справедливости, которые выражают представления о справедливости англоязычных народов» (Франкфуртер), «канонами приличия, которые отмечают прогресс взрослеющего общества». (Эрл Уоррен), «ценности, настолько укоренившиеся в традициях и совести нашего народа, что их можно причислить к основополагающим» (Кардозо), «самая узкая социальная традиция» (Скалия) и т. д.– использование общепринятой морали при осуществлении полномочий судебного надзора не имеет смысла. Помните, что то, что пересматривается, является продуктом общепринятых моральных убеждений, законом, принятым представительным законодательным органом. Для суда мало смысла использовать ту же традиционную мораль для рассмотрения ее выражения более представительным органом.
Этот общий пункт подкрепляется пунктом, относящимся к положениям Конституции США о защите прав. Такие права становятся важными, когда их поддержка не пользуется поддержкой большинства, так что они не могут победить в политическом процессе.Идея о том, что существуют такие права меньшинства против взглядов большинства, опять же не имеет смысла, если этим правам даются конвенциональные, т. е. мажоритарные, интерпретации. Право действует против большинства только тогда, когда большинство с ним соглашается, — это не совсем право. Эти аргументы недоступны, когда не конституционное право включает нормы морали, а общее право или статутное право. Один аргумент, общий для всех трех видов права, основан на использовании языка. Он говорит, что теория значения, которую Мур долгое время считал правильной, когда мы говорим, обычно ссылаемся на вещи, природа которых определяет наше значение.Если я попрошу вас «искать золото», я ожидаю, что вы принесете мне действительно золото; «золото дураков» или что-то другое, что обычно считается золотом, не имеет в виду. То же самое относится и к моральным обычаям. Если законодательные органы предписывают судьям определить, в чем заключаются наилучшие интересы ребенка, или обладает ли лицо, ходатайствующее о предоставлении гражданства, хорошими моральными качествами или нет, их, как и всех других выступающих, следует толковать так, чтобы они имели в виду то, что действительно лучше или хорошо, а не то, что наиболее важно. люди думают, что это лучше или хорошо19.
Возможно, конечно, что предшествующие судьи, законодательные органы или конституционные собрания означают что-то еще. Возможно, они имели в виду, что судьи должны руководствоваться общепринятыми моральными убеждениями. Возможно даже, что они имели в виду, что судьи обращаются к их моральным убеждениям (законодателей) по этим вопросам, независимо от того, были ли такие убеждения общепринятыми или нет. Но в отсутствие какого-то особого контекста, делающего существование этих особых интерпретационных намерений правдоподобным, законодателей, безусловно, следует рассматривать как других пользователей языка.Судьи должны установить, где ребенку действительно будет лучше, а не угадывать, что думает по этому поводу большинство людей.
Обоснование очевидного закона вдумчивым судьей
Как мы видели, вдумчивый судья оправдывает использование очевидных законов, таких как законы, политическими идеалами, такими как демократия и верховенство закона. Именно это упражнение оправдывает использование судьями принудительной власти государства, чтобы приказать сторонам в судебном процессе отказаться от своей собственности, своей свободы, своих детей и своей жизни.Для Мура немыслимо, чтобы судьи могли когда-либо чувствовать себя удовлетворенными этой задачей оправдания, если бы они обращались только к общепринятым версиям демократии, верховенства права и т. д. Заметьте, насколько личным является этот вопрос: «Что оправдывает меня в том, что я делаю? собираюсь сделать?» То, что другие думают, что это прекрасно, не может ответить за меня. — Я думаю, это нормально? является уместным вопросом, и для этого вопроса только идеалы, которые я принимаю как истинные, могут соответствовать всем требованиям.
Заполнение неясностей в законе в сложных случаях
В случаях противоречащих друг другу правовых норм, в случаях первого впечатления и в случаях полутеневого применения правовых норм — «трудных случаях» Фуллера — конвенциональная мораль имеет, пожалуй, самое правдоподобное применение.Тот факт, что эти «законодатели», т. е. судьи, рассматривающие сложные дела, не подчиняются дисциплине частых и регулярных выборов, может отклонить от концепции, которую ранее отстаивал Мур. Как отмечали многие философы-правоведы, взгляды судей в сложных делах не отражают преемственности, которую судьи справедливо ощущают, между тем, что они делают в сложных делах, и тем, что они делают в более легких. С точки зрения «молекулярного законодательства» судьи делают две совершенно разные вещи: в простых случаях они применяют закон, а в сложных случаях они создают новый закон.В тяжелых случаях имеет место расширение того, что было раньше, а не новое начало, подразумеваемое фразой «судебное законодательство». Судьи обязаны продлить прошлое так, как этого не делают законодатели.
Следовательно, традиционная мораль не должна использоваться при интерпретации, необходимой в тяжелых случаях. Но как нам понять «прошлое», которому судьи обязаны верность в сложных делах? Должны ли мы видеть очевидный закон, который должен быть расширен в тяжелых случаях как:
(1) отражение моральных убеждений сообщества?
(2) навязывание моральных убеждений законодателей во время принятия закона? Или
(3) отражение какого-то основополагающего идеала справедливости, частично и несколько неточно выраженного очевидным законом?
Если это первое, то судьи вполне могут попытаться расширить этот прошлый консенсус, обновив его до настоящего консенсуса.
Если это второе, то судьи вполне могли бы попытаться расширить это прошлые наложения в свете собственных взглядов этих законодателей на то, что они сделали.
Если это третье, то судьи должны попытаться расширить эту попытку захватить правосудие с их собственными лучшими представлениями о том, что требует правосудие.
История не решает, какую из этих точек зрения принять. Не должно иметь большого значения, как законодатели прошлого смотрели на то, что они делали. Вопрос к судьям более прямолинейный, нормативный.В заместительном суждении Мура судьи должны рассматривать законодателей прошлого как стремящихся к справедливости и, таким образом, должны присоединиться к ним в задаче ее достижения.
Таким образом, с этой точки зрения право и мораль являются лишь двумя сторонами одной и той же медали,
а именно, социализации. Мораль стремится влиять на наше поведение посредством наших желаний, тогда как закон является «запасным» вариантом и нацелен на наши убеждения.
Это относится и к Соединенным Штатам, и не только в том, как наши законные школьные системы и наши уголовные законы способствуют формированию, в том числе нравственному воспитанию, граждан.Тем не менее, типичными мнениями в современной либеральной демократии, вероятно, будут:
(1) что мораль не может быть законодательно закреплена; и
(2) что даже если бы мораль можно было узаконить, этого не должно быть … что делать это в какой-то мере неуместно, даже тиранически, либо потому, что нет достаточно объективной морали, чтобы оправдать принуждение к закону, либо потому, что автономия и индивидуальность человека были бы быть нарушены попытками узаконить мораль или, возможно, даже потому, что у человека действительно нет автономии, которая могла бы реагировать на любую внешнюю директиву.
Такие опасения не очевидны в Этике: закон нужен как для того, чтобы помочь приучить граждан к добродетельным действиям, так и для того, чтобы помочь сохранить приобретенные ими полезные привычки. Эти потребности могут быть признаны даже теми, кто осознает, что добродетели, обычно поощряемые законом, не являются высшими. Мнения, которые можно иметь о добре, истине и прекрасном, являются второстепенной задачей большинства законов. Тем не менее, следует помнить совет Аристотеля о том, что тот, кто должен «с умом слушать лекции о том, что благородно и справедливо, должен быть воспитан в хороших привычках.«Для надлежащего привыкания законы могут быть очень полезными, если не необходимыми. Хотя интеллектуалы либерально-демократических симпатий могут не верить, что мораль зависит от закона, для любого режима, который воспринимает себя и должен восприниматься всерьез, почти невозможно не формировать своих граждан в отношении нравственности Отрицание того, что законодательство нравственности может или должно иметь место, не устраняет такого законодательства, а только скрывает его, может быть, искажает и иным образом сбивает с толку и вводит в заблуждение как правителей, так и управляемых.(Здесь, как и в физике, многое из того, что замечал и на что полагался Аристотель, мы также молчаливо полагаемся на него, но полагаемся на него бессистемно, потому что оно не замечается должным образом.) закон должен быть по отношению к морали в обществе. Когда мы увидим, что может означать закон и как он работает, мы сможем лучше понять, что делает закон на службе морали даже в такой либеральной демократии, как наша. Говорить о влиянии закона — значит, как мы увидим, говорить о многих способах, которыми общество формирует гражданина и направляет человека.
Для нас, однако, термин «закон» имеет тенденцию ограничиваться тем, что делает «правительство», законами и указами, издаваемыми правительствами. Мы заметили наиболее заметный способ, описанный в конце «Этики», в котором нравственность зависит от закона. Здесь следует добавить, что не только нравственность в некоторой степени зависит от права, но и сам закон в значительной мере зависит от нравственности. Надлежащим образом обученный, нравственно бдительный гражданин, как правило, приходит в ужас от правонарушителя.Но не основывается ли этот ответ (который может помочь держать в узде многих потенциальных нарушителей закона), в свою очередь, на презумпции того, что закон, вероятно, является и фактически обычно кажется моральным и служит обществу? общее благо. Между правом и моралью существует критическая взаимосвязь. Взаимность, как мы помним из «Этики», может иметь жизненно важное значение для справедливости как особая добродетель. Для проявления большинства добродетелей требуется стабильное сообщество, в котором тело и жизнь, а также собственность находятся в достаточной безопасности…и, конечно же, здесь важен закон.
Чтобы стать или остаться цивилизованным человеком, обычно требуется здоровое сообщество… то есть такое, в котором закон играет значительную роль. Разве нет тесной связи между справедливостью и миром дома и за границей? Признать это не значит отрицать, что дружба также, по-видимому, скрепляет общины и что законодатели могут заботиться о ней больше, чем о справедливости. Тем не менее, для надежной дружбы, равно как и для справедливости, не требуется должного привыкания.Кто, как не законодатель, которого всегда следует отличать от тирана, может обеспечить такую привычку.
Если закон не основан на морали, то на чем же он может быть основан? В основе обычного права лежит христианская мораль, вытекающая из Десяти Заповедей. Уголовное право основано на Десяти заповедях, которые также лежат в основе договорного права и права гражданских правонарушений. Общее право, унаследованное британскими колониями на австралийском континенте и созданным в 1901 году Содружеством наций, разрабатывалось на протяжении многих столетий британскими судьями, которые реагировали на конкретные человеческие ситуации на основе христианских ценностей.В эссе, озаглавленном «Мораль и уголовное право»,
лорд Девлин писал:
«Общество означает общность идей; без общих представлений о политике, морали и этике не может существовать ни одно общество. У каждого из нас есть представления о том, что такое добро и что такое зло; их нельзя скрывать от общества, в котором мы живем. Если мужчины и женщины попытаются создать общество, в котором не будет фундаментального согласия относительно добра и зла, они потерпят неудачу; если, основываясь на общем согласии, согласие пойдет, то общество распадется.
“Ибо общество не является чем-то, что держится вместе физически; оно удерживается невидимыми узами общей мысли. Если бы узы были слишком ослаблены, члены разошлись бы. Общая мораль – часть рабства. Рабство является частью цены общества, и человечество, которое нуждается в обществе, должно заплатить его цену».
Примеры и иллюстрации
Airedale NHS Trust v Bland [1993] HL:
[Закон и мораль – лечение – законен ли отказ от искусственного вскармливания – пациент в устойчивом вегетативном состоянии – поддержание жизни с помощью искусственного вскармливания]
Тони Блэнд, серьезно пострадавший во время катастрофы в Хиллсборо, поддерживал жизнь только благодаря обширной медицинской помощи (а не аппарату жизнеобеспечения).Он прожил три года в стойком вегетативном состоянии (ПВС). Он продолжал нормально дышать, но его жизнь поддерживалась только благодаря тому, что его кормили через зонд. У него не было шансов на выздоровление; его врачи (при поддержке его семьи) добивались от суда признания того, что они вправе прекратить лечение, чтобы он мог спокойно умереть.
Проведено: лечение могло быть надлежащим образом прекращено в таких обстоятельствах, потому что наилучшие интересы пациента не предполагали его сохранение любой ценой.
В данном случае его кормление было лечением, а это лечение не могло его вылечить и, следовательно, не отвечало его интересам.
Врачи Д. имели право прекратить искусственное кормление.
См. также Frenchay Healthcare National Health Service Trust v S [1994]. Аналогичные проблемы могут возникнуть в отношении очень пожилых людей или в отношении детей, рожденных с очень серьезными умственными или физическими недостатками, особенно в тех случаях, когда для сохранения их жизни потребуется серьезное (и, возможно, повторное) хирургическое вмешательство, см. Re J [1991].
Врачи Д. имели право прекратить искусственное кормление. У суда не было выбора, кроме как принять решение так или иначе.
Справочник Генерального прокурора (№ 6 от 1980 г.) CA
[Закон и мораль – согласие на драку в общественном месте – не в интересах общества – не влияет на надлежащее занятие спортом – законное наказание – разумное хирургическое вмешательство]
D, 18 лет и потерпевший, 17 лет, согласился драться.
Задержано: Не в интересах общества причинять или пытаться причинять друг другу телесные повреждения.
Куриам. Правильно проведенные игры и занятия спортом и т.д. ОК
В суде оправдан.
Бейкер против Хопкинса [1959] CA
[Закон и мораль – отношение судов к спасателям – деликтное право]
DD, фирма подрядчиков, которые были наняты для очистки колодца.
Выхлоп бензинового двигателя на глубине 30 футов ниже уровня земли представлял собой опасный дым.
Рабочие спустились в колодец, и их охватил дым. C были распорядителями имущества врача, который пытался спасти сотрудников, но при этом сам был охвачен дымом.Все трое погибли.
Проведено: D несут ответственность за все смерти, включая доктора.
Естественным и вероятным следствием небрежного отношения подсудимых к работникам была попытка их спасения кем-то; защита novus actus interveniens и volenti non fit injuria не может быть успешно использована против иждивенцев врача.
Morris LJ:
“Если… A по небрежности подвергает B опасности при таких обстоятельствах, что предсказуемым результатом является то, что кто-то попытается спасти B, и если C попытается это сделать – следует описать C в любом подходящем смысле как «волонтер»? По моему мнению, ответ — нет….Если C, движимый импульсивным желанием спасти жизнь, действует смело и быстро и подчиняет себе любую робкую чрезмерную заботу о своем благополучии или комфорте, я не думаю, что было бы разумно или уместно сказать, что он свободно и добровольно согласился взять на себя риски ситуации, которая была создана из-за небрежности А». мораль – ответчик врач не может нести ответственность, если он действовал в соответствии с общей практикой]
D, врач не дал миорелаксант; Заявитель получил перелом во время проведения электросудорожной терапии.Отличия практики.
Удержано: Не халатность, если он действовал в соответствии с практикой
Претензия истца отклонена.
Brown, R v (1993) HL:
[ABH – причинение вреда – согласие не имеет отношения]
D1-5 занимался различными гомосексуальными садомазохистскими практиками в частном порядке.
Они применяли генитальные пытки и наносили травмы, охотно и с энтузиазмом участвуя в совершении актов насилия друг против друга ради сексуального удовольствия, которое оно порождало в причинении и получении боли.Ни один не требует лечения.
Проведено: суды вмешаются, ответственность наступила, но не в том случае, если это было правомерным действием. Государственная политика, боязнь прозелитизма, коррупция, культ насилия и возможность причинения серьезного вреда.
Отсутствие согласия не является элементом нападения, повлекшего причинение телесных повреждений или противоправное ранение.
Согласие является защитой от причинения телесных повреждений в ходе какой-либо законной деятельности, но не должно распространяться на садомазохистские встречи.
Лорд Мастилл, не соглашаясь, «эти согласованные частные действия [не] являются преступлениями против существующего закона о насилии»,
Лорд Слинн не нашел веских причин для привлечения к уголовной ответственности.
Определение нападения:
«В соответствии с общим правом нападение — это действие, посредством которого лицо преднамеренно или по неосторожности заставляет другое лицо опасаться немедленного и незаконного личного насилия, а побои — это действие, посредством которого лицо намеренно или по неосторожности совершает личное насилие. на другой.Тем не менее, термин «нападение» в настоящее время как в обычном юридическом употреблении, так и в законодательных актах, регулярно используется для обозначения как нападения, так и нанесения побоев». 1956] KBD Denning J:
[Закон и мораль – суды обеспечивают выполнение обещания]
D арендовал многоквартирный дом в Лондоне у C в 1937 году. Когда разразилась война, многие квартиры остались пустыми, так как люди были эвакуированы, чтобы избежать бомбардировок. C согласился уменьшить арендную плату вдвое, если D останется.D платил сниженную арендную плату до конца войны, а C затем потребовал возмещения «задолженности».
Задержано: Деннинг Дж. «открыл» справедливую доктрину эстоппеля векселя и заявил, что, хотя С снова имеют право на арендную плату, первоначально согласованную после окончания войны, они не могут отказаться от своего обещания принять уменьшенную арендную плату за ранее годы.
Когда одна из сторон контракта дает другой стороне обещание, которое, как она знает, будет выполнено, что она не будет обеспечивать соблюдение своих строгих законных прав; справедливый принцип эстоппеля векселя делает это обещание обязательным для него до тех пор, пока он не уведомит в разумные сроки о своем намерении возобновить эти права.
Деннинг Дж. (obiter dicta) сказал, что если бы Центральный Лондон предъявил иск за долги за 1940-45 годы, он бы потерпел неудачу. Это было бы лишено права отказываться от своего обещания [изложенного в соглашении 1940 года] о снижении арендной платы, даже если это обещание не было подкреплено никакими соображениями со стороны High Trees, потому что в противном случае было бы несправедливо
Чедвик против Совета Британских железных дорог [1967] QBD:
[Закон и мораль – суды обращаются к спасателям]
D Железнодорожный совет несет ответственность за крупную железнодорожную аварию, вызванную их небрежностью.C жена волонтера, принимавшего участие в спасательных работах, перенесла нервный шок и в результате пережитого стала психоневротиком.
Задержано: Ущерб от нервного шока подлежал возмещению, даже если шок не был вызван страхом за себя или безопасность своих детей, и в данных обстоятельствах можно было предвидеть травму от шока.
D должен был предвидеть существование спасателя и, соответственно, был обязан ему. C выиграл
Clark v MacLennan [1983]:
[Закон и мораль – врач-ответчик не может нести ответственность, если он действовал в соответствии с общей практикой]
D, врач прооперировал для облегчения недержания мочи при напряжении после родов через месяц после родов нормальная практика три месяца.
Проведено: Отход D от общей практики не был оправдан. Претензия истца удовлетворена.
Cox, R v (1992) Winchester Crown Court, Ognall J:
[Закон и мораль – врачи, которые убивают, могут быть убийцами – двойной эффект]
D, врач общей практики ввел смертельную дозу хлорида калия своему пациенту V, который вскоре после этого она умерла сравнительно мирно. V Лилиан Бойс была пожилой женщиной, неизлечимо больной и постоянно страдавшей от сильных болей. С ведома и одобрения своей семьи она попросила D положить конец ее страданиям, ускорив ее смерть.
Проведено: D не может быть предъявлено обвинение в убийстве, потому что B была кремирована до того, как возникли какие-либо подозрения, и причина ее смерти не могла быть окончательно доказана, но присяжные признали его виновным в покушении на убийство, и судья вынес условный приговор к тюремному заключению.
Виновен в покушении на убийство, приговорен к 12 месяцам условного тюремного заключения
Dudley & Stephens, R v (1884) CCR:
[Закон и мораль – закон не знает защиты от необходимости]
Три моряка и юнга потерпели кораблекрушение и дрейфовали на открытой лодке в 1600 милях от суши.После того, как они провели восемь дней без еды и шесть дней без воды, ДД решил, что их единственный шанс выжить — это убить и съесть юнгу, что они и сделали. Через четыре дня их подобрал проходящий мимо корабль, а по возвращении в Англию они были осуждены за убийство.
Удержано: Необходимость никогда не может быть защитой от убийства. Позже им смертный приговор был заменен на шесть месяцев тюремного заключения.
Виновен
F против Управления здравоохранения Западного Беркшира [1990] HL:
[Закон и мораль — стерилизация психически неполноценного лица — добровольное стационарное лечение в психиатрической больнице — неспособность пациента дать согласие — юрисдикция суда давать или не давать согласие к операции]
D, органы здравоохранения решили стерилизовать C (36 лет) из-за ее умственных способностей.
Удержано: В ее интересах было пройти стерилизацию.
Стерилизация разрешена.
Fairchild против Glenhaven [2002] HL:
[Право и мораль – гражданское правонарушение – халатность – причинно-следственная связь – нарушение служебных обязанностей, причинившее ущерб или существенно содействующее ему – может ли C взыскать взыскание с “одного или обоих” работодателей]
Три объединенные апелляции против работодателя о возмещении ущерба за небрежное воздействие асбестовой пыли, вызвавшее мезотелиому, но С. не смог показать, во время какой работы он пострадал от вредной пыли.
Удержано: C мог добиться успеха против одного или обоих работодателей, и они должны были решить, кто будет платить какую долю вознаграждения.
Где
• C был нанят более чем одним работодателем и
• D имел обязанность по предотвращению вдыхания пыли, а
• D нарушил эту обязанность и,
• C заразился мезотелиомой, и
• любая другая причина мезотелиомы может быть исключена, но,
• C не может (из-за ограничений человеческой науки) доказать, во время какой работы он вдыхал пыль….
…C имел право взыскать с обоих своих работодателей.
Этот вывод соответствовал принципу и авторитету, правильно понятому.
В тех случаях, когда условия были соблюдены, было справедливо и в соответствии со здравым смыслом рассматривать поведение обоих работодателей, подвергающее истца риску, которому он не должен был подвергаться, как внесение материального вклада в заключение контракта истцом условие, от которого обязанностью обоих работодателей было защитить его.
Политические соображения склонялись в пользу такого вывода. Это был вывод, который следовал, даже если один из работодателей не предстал перед судом.
В аргументе не было предложено, чтобы право истца в отношении любого из работодателей было на какую-либо сумму меньше полной компенсации, на которую он имел право, хотя любой из них, конечно, мог требовать взноса против другого или против любого другого работодателя, несущего ответственность в в отношении того же ущерба в обычном порядке.
C выиграл
Это решение было уточнено в деле Barker v Corus [2006] HL, в котором указывалось, что ущерб должен устанавливаться пропорционально количеству времени, проведенному работником в компании.
Frenchay NHS Trust против S [1993] CA:
[Право и мораль – медицинское лечение – наилучшие интересы пациента, чтобы позволить умереть – сначала необходимо получить согласие суда]
D, больница, в которой находился С. в возрасте 24 лет. пациент. S находился в коме (PVS) после передозировки наркотиков. Отсоединилась трубка для кормления, консультант порекомендовал ничего не делать.
Проведено: Не было оснований сомневаться в заключении консультанта, который счел, что в интересах пациента не проводить операцию по замене трубки.
S позволено умереть.
Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority [1986] HL:
[Закон и мораль – может ли врач давать советы и лечение по вопросам контрацепции девочке младше 16 лет без согласия родителей]
Миссис Гиллик, католичка, мать пяти дочерей требовала заявления о том, что врач будет действовать незаконно, если будет давать противозачаточные средства какой-либо из ее дочерей без согласия матери.
Утверждалось, что, с одной стороны, число подростковых беременностей увеличится, если суды постановят, что согласие родителей необходимо, а с другой стороны, судьи будут поощрять секс несовершеннолетних, если они этого не сделают.
Проведено: Врач мог прописать противозачаточные средства девушке младше 16 лет, чтобы предотвратить ущерб ее здоровью, даже если он знал, что это поможет мужчине вступить в незаконный половой акт.
Большинством голосов от трех до двух. Ребенок до 16 лет, который может полностью понять последствия предлагаемого лечения («ребенок, компетентный по Гиллику»), может дать свое согласие на лечение.
(Поскольку парламент не принимал законов, суды должны были принять решение так или иначе.)
Миссис Гиллик проиграла.
Howe, R v [1987] HL:
[Закон и мораль – судебный прецедент – HoL – примеры ухода – под влиянием морали]
D вместе с другими участвовал в двух отдельных убийствах, а в третьем случае предполагаемая жертва сбежал. Заявление D о том, что он действовал под принуждением, было оставлено на усмотрение присяжных по двум из трех пунктов обвинения, но D был признан виновным по всем трем пунктам. сказать, что ни один участник (будь то главный или соучастник) не может заявлять о принуждении в защиту обвинения в убийстве.
В деле Линча Палата лордов постановила, что принуждение может использоваться в качестве защиты для лица, которое участвовало в убийстве в качестве пособника и подстрекателя. Невыполнение этого требования привело бы к нелогичному результату: хотя принуждение является полной защитой от всех менее серьезных преступлений, чем убийство, оно не является даже частичной защитой от самого обвинения в убийстве.
В деле «Р против Готтс» [1992] решение по делу Хоу было дополнено определением, что принуждение не является защитой от покушения на убийство.
Лорд Гриффитс сказал:
“Мы сталкиваемся с растущей волной насилия и терроризма, против которых закон должен твердо стоять, признавая, что его высшая обязанность – защищать свободу и жизни тех, кто живет под его контролем.Святость человеческой жизни лежит в основе этого идеала, и я не стал бы ничего делать, чтобы подорвать его, даже если он будет совсем незначительным».
Главным фактором в пользу отмены решения было то, что дела были просто неправильными с точки зрения морали. В более ранних случаях для некоторых второстепенных сторон была предусмотрена защита под принуждением, и теперь Лорды в основном не согласились с моральной точки зрения с тем, что было сделано. То, что Хоу было принято в контексте возросшего опыта и страха перед терроризмом ИРА, нельзя упускать из виду.Вторичная причина отмены связана с фактором Шивпури, заключающимся в том, что исключения, предусмотренные в более ранних случаях, приводят к неопределенности в их применении.
Human Fertilization and Embryology Authority Ex p. Blood, R v [1997] CA:
[Закон и мораль – искусственное оплодотворение – сперма умершего мужа]
Муж Дайанны Блад, Стивен, заболел менингитом и впал в кому. Образцы его спермы были собраны с помощью электроэякуляции для последующего искусственного оплодотворения.Ее муж умер вскоре после того, как были получены образцы.
Управление по оплодотворению и эмбриологии человека отказалось дать необходимое согласие на лечение в Великобритании, сославшись на Закон об оплодотворении человека и эмбриологии 1990 года, который требовал письменного согласия донора на взятие его спермы. Они также отказали в разрешении на вывоз спермы для лечения за границу.
Проведено: Медицинское лечение женщины и мужчины вместе не могло быть проведено после смерти мужчины, предоставившего сперму.
Отсутствие необходимого письменного согласия означало, что как лечение г-жи Блад, так и хранение спермы ее мужа были запрещены Законом 1990 г., и любые исключения в Законе не применялись.
В соответствии со статьями 59 и 60 Договора о ЕС г-жа Блад имела прямое право на получение медицинской помощи в другом государстве-члене, и отказ властей разрешить экспорт спермы ее мужа нарушил это право, поскольку она произвела оплодотворение лечение, которого она добивалась, невозможно.
Миссис Блад разрешили использовать сперму за границей
[Комментарий]: Миссис Блад использовала сперму в бельгийской клинике, а позже родила мальчика Лиама.
У нее родился второй сын Джоэл. тем же методом.
В соответствии с Законом об оплодотворении человека и эмбриологии (умерших отцов) от 2003 года матерям, таким как миссис Блад, чьи дети были зачаты после смерти их отца, предоставляется шестимесячное «окно», в течение которого они могут повторно зарегистрировать рождение своих детей.
Knuller v DPP [1973] HL:
[Закон и мораль – суды диктуют мораль]
D издавала журнал для контактов с геями, тем самым вступая в сговор с целью подорвать общественную мораль.
Проведено: в Шоу (1962 г.) Палата лордов постановила, что уголовное преступление по общему праву «заговор с целью развращения общественной морали» существовало, несмотря на то, что многие комментаторы полагали, что его не существовало; фактически его создал Холл.
Лорд Рид не согласился с Шоу, и по-прежнему считал его неверным, но из этого не следовало, что теперь его следует пересмотреть. изменить все, что я сказал в своей речи.Но из этого не следует, что теперь я должен поддержать предложение о пересмотре решения. Я неоднократно говорил в недавних случаях, что изменение нашей практики, когда мы больше не рассматриваем предыдущие решения этой палаты как абсолютно обязательные, не означает, что каждый раз, когда мы считаем, что предыдущее решение было неправильным, мы должны его отменить. В общих интересах определенности в законе мы должны быть уверены, что есть какая-то очень веская причина, прежде чем мы так поступим».
Виновен
Неттлшип против Уэстона [1971] CA:
[Закон и мораль – решения, основанные на политике]
D водитель-ученик вышел на свой первый урок под присмотром друга C.D врезался автомобилем в фонарный столб, а C был ранен.
Принято: Даже водители-ученики должны оцениваться по стандарту достаточно компетентного водителя. Тот факт, что конкретный водитель неопытен и некомпетентен, не оправдывает его несоблюдение этого стандарта. Не имеет значения, что водитель-ученик делает все возможное, что может.
Лорд Деннинг применил соображения политики при решении этого дела, потому что, по его словам, пострадавшее лицо может возместить убытки из страхового полиса; однако застрахованная сторона должна быть виновата в первую очередь.
Denning LJ
«Таким образом, в этой отрасли права мы отходим от концепции: «Нет ответственности без вины». Мы начинаем применять тест: «На кого должен падать риск?» Морально водитель-ученик не виноват, но юридически он обязан быть виновным, потому что он застрахован, и риск должен падать на него».
C выиграла возмещение убытков с учетом вычета за халатность.
Претти против Соединенного Королевства (2002 г.) ECHRL:
[Закон и мораль – право на смерть – эвтаназия]
Дайан Претти была неизлечимо больна болезнью двигательных нейронов.Она хотела получить право запросить медицинскую помощь, чтобы умереть в любое время по своему выбору. В частности, дать гарантию, что ее муж не будет привлечен к ответственности за активное содействие ее самоубийству.
Задержано: в доступе отказано.
Генеральный прокурор не имел полномочий давать обязательство, что он не согласится преследовать в судебном порядке мужа неизлечимо больной женщины, если он поможет своей жене совершить самоубийство.
Миссис Претти умерла 11 мая 2002 года. Ее дело получило всеобщее освещение.Ее поддержало Общество добровольной эвтаназии (VES).
R v R (изнасилование – освобождение от брака) [1991] HL:
[Закон и мораль – изменение отношения]
D, проживающий отдельно от своей жены, изнасиловал ее в доме ее родителей, куда он насильно проник.
Проведено: Отмена 250-летнего иммунитета мужа от уголовной ответственности за изнасилование жены Давнее правило, что жена считается давшей свое согласие безвозвратно, больше не уместно.
Лорд Кейт:
«Это не создание нового правонарушения, это устранение фикции общего права, которая стала анахронизмом и оскорбительным, и мы считаем, что наш долг, придя к такому выводу, принять соответствующие меры»
Лорд Кейт считал, что это пример эволюции общего права в свете меняющегося социального, экономического и культурного развития.
Виновен
Re A (Дети) (2000) CA:
[Закон и мораль – сиамские близнецы – CA не суд морали]
«Джоди» и «Мэри» соединились в нижней части живота. Сердце и легкие Джоди обеспечивали обоих кислородом. Оба вскоре умрут, если ничего не предпринять. Если бы близнецов разлучили, у Джоди были бы хорошие шансы на довольно «нормальную» жизнь, но операция привела бы к немедленной смерти Мэри. Родители близнецов выступили против подачи заявления по религиозным причинам.
Проведено: Ward LJ заявил, что суд «не является судом нравов», и посчитал, что операция будет законной самообороной, т.е. врачи придут на помощь Джоди.
Ward LJ:
“Мэри может иметь право на жизнь, но у нее мало прав на жизнь… [она] убивает Джоди… она высасывает жизненную силу Джоди.
[Мэри] проживет только до тех пор, пока как Джоди выживает. Джоди не проживет долго, потому что конституционно она не сможет справиться. Паразитическая жизнь Мэри станет причиной прекращения жизни Джоди.”
Брук LJ сказал, что не может быть никаких сомнений в том, что по английскому праву хирург, который выполнил разделение, зная, что это неизбежно ускорит смерть Мэри, будет считаться виновником этой смерти и сделал это преднамеренно, даже если это не имело бы был его основным мотивом. С точки зрения закона, доктрина двойного эффекта здесь не применялась, потому что смерть Марии не была бы побочным эффектом обращения, которое в целом отвечало ее интересам. Превалировала бы защита необходимости:
«Говорят, что есть три необходимых требования для применения учения о необходимости.Действие необходимо, чтобы избежать неизбежного и непоправимого зла. Не следует делать больше, чем это разумно необходимо для достижения цели. Причиненное зло не должно быть несоразмерно избегаемому злу… Я считаю, что все эти требования в данном случае выполнены». [Вы должны отметить, что это не соответствует случаям, подобным Дадли и Хоу].
Разрешение на операцию получено, операция выполнена Мэри умерла. Суд прямо заявил, что это дело не создает прецедента для будущих дел.
Re B (A Minor) (Опека: лечение) [1981]:
[Закон и мораль – новорожденному монгольскому ребенку требуется операция для спасения жизни – отказ родителей от согласия – является ли операция в интересах ребенка]
D, местная власть. Хирург договорился с родителями о разрешении умереть ребенку с болезнью Дауна и осложнениями.
Проведено: Наилучшие интересы ребенка, чтобы ей сделали операцию, ребенок может рассчитывать на нормальную продолжительность жизни монгола.
Ребенку разрешено жить.
Re B (взрослый: отказ от лечения) [2002] FD (дама Элизабет Батлер-Слосс):
[Закон и мораль – право на смерть]
D больница, ухаживающая за заявительницей Б., которая утверждала, что ее право дееспособного взрослого отказаться от поддерживающего жизнь лечения. У г-жи Б. развился тетраплегический синдром и полный паралич шеи вниз, но она могла двигать головой и говорить. Через своих адвокатов она дала больнице официальные инструкции о том, что хочет отключить искусственную вентиляцию легких, хотя понимала, что это почти наверняка приведет к ее смерти.
D утверждала, что «амбивалентность» подтверждается тем фактом, что г-жа Б. сказала врачам, что она рада, что ранее сделанное предварительное распоряжение не возымело действия. Батлер-Слосс резко раскритиковал такое отношение.
Проведено: Установлено с Re T (взрослый: отказ от лечения), что дееспособный взрослый человек может отказаться от лечения, даже если вероятным результатом будет его собственная смерть, и этот отказ может быть по причинам, которые являются рациональными, иррациональными, неизвестно или несуществующее.Это право было подтверждено в деле Airedale NHS Trust v Bland [1993] HL и Re MB (взрослый: лечение) [1997], где можно найти дополнительные явные подтверждения права дееспособного человека на самоопределение.
Более того, существует презумпция дееспособности, и она предназначена для тех, кто отстаивает право пренебречь желанием пациента установить недееспособность, а не для того, чтобы пациент установил свою собственную дееспособность: Re C (взрослый: отказ от лечения).
Г-же Б. было позволено умереть, и она умерла мирно несколько недель спустя.
Re J (несовершеннолетний) [1991] CA:
[Закон и мораль – право родителей – принимать решение о лечении]
D, врачи решили не использовать аппарат искусственной вентиляции легких, если ребенок J перестанет дышать. Малышка страдала тяжелыми умственными и физическими недостатками.
Проведено: Родители и суд имеют право решать вопрос о лечении. Но абсолютной презумпции в пользу жизни не было. Хотя не было права убивать, не было также и требования «официально стремиться сохранить жизнь».
Желание матери одобрено; разрешено использование вентилятора.
Re S (взрослый пациент: стерилизация) (2000) CA:
[Закон и мораль – психическое расстройство – лечение, согласие на – операцию по стерилизации – в интересах пациента]
S, женщина 29 лет с тяжелым трудности в обучении, фобия по поводу больниц и месячных, которые причиняли ей страдания. По мнению матери, основным преимуществом гистерэктомии по сравнению с противозачаточным устройством было то, что это была единственная процедура, не требующая какого-либо дальнейшего хирургического вмешательства. Медицинские данные подтверждают, что менее инвазивный метод является предпочтительным вариантом, опасения матери не склоняют чашу весов в пользу серьезной необратимой операции в терапевтических целях.
Тест Болама стал нерелевантным для судебного решения о том, отвечало ли лечение интересам пациента, поскольку этот процесс требовал, чтобы судья считал благополучие пациента превыше всего. Применяется Re F (Психически больной: Стерилизация) [1990]. Апелляция пациента разрешена.
Re T [1992] CA:
[Закон и нравственность – согласие на лечение – отказ от переливания крови – эффективен ли отказ – имеют ли врачи право лечить в соответствии с наилучшими интересами пациента]
T в возрасте 20 лет, Беременность на 34 неделе, не хотела переливания крови из-за убеждений Свидетелей Иеговы.Ее отец хотел немедленно сделать переливание.
Проведено: Хотя взрослый пациент имел право отказаться от лечения, такой отказ мог быть вызван болезнью, лекарствами, ложными предположениями, дезинформацией или ее волей.
Переливание крови разрешено.
Re W (ля минор) [1992] CA:
[Закон и мораль – девочка 16 лет отказывается дать согласие на предлагаемое лечение – имеет ли полное право отказаться от лечения]
Местные власти хотели лечить W против ее воли.У W была анорексия
Приговор: Закон не наделял 16 абсолютным правом определять лечение. Желание несовершеннолетнего, которое будет учтено, не может иметь преимущественную силу перед согласием, данным судом. Наилучшие интересы требуют немедленного лечения.
W поступила против ее воли.
Роу против Министерства здравоохранения [1954] CA:
[Закон и мораль – ответчик не может нести ответственность при условии, что он действовал в соответствии с общей практикой]
D, анестезиолог сделал спинальную эстетику, содержащуюся в ампуле, которая была загрязнены фенолом.
Принято: Опасность невидимых трещин не была известна до 1951 года.
Иск истца отклонен.
Шоу против DPP (1962) HL:
[Право и мораль – суды пытаются диктовать мораль]
D вступил в сговор с целью развратить общественную мораль, опубликовав брошюру, содержащую подробные сведения о проститутках и их услугах. До сих пор это было неиспользованным преступлением по общему праву.
Проведено; Лорд Такер сослался на прецеденты правонарушения.
виконт Саймондс;
«В сфере уголовного права я не сомневаюсь, что у судов остается остаточная власть для обеспечения высшей и основной цели закона, для сохранения не только безопасности и порядка, но и морального благополучия государство, и что их обязанность — охранять его от нападений, которые могут быть тем более коварными, что они новаторские и к ним не готовы.
Лорд Рид (несогласный) сказал, что существуют самые разные мнения относительно того, насколько закон должен наказывать аморальные действия, совершенные в частном порядке,
«Некоторые думают, что закон уже заходит слишком далеко, другие, что он не заходит достаточно далеко. Парламент — это подходящее место, и я твердо убежден, что это единственное подходящее место для решения этого вопроса». Виновный.
Sidaway v Bethlem Royal Hospital [1985] HL:
[Закон и мораль – ответчик не может нести ответственность при условии, что он действовал в соответствии с общей практикой]
D, хирург.Заявитель не проинформирован о риске, получил повреждение спинного мозга.
Проведено: «Тест Болама» применяется к вопросу о раскрытии риска.
Ее требование отклонено.
Задержано: искреннее непонимание того, что ребенку нужна медицинская помощь, или неспособность по глупости, невежеству или личной неадекватности обеспечить эту помощь были хорошей защитой, потому что умышленное пренебрежение ребенком не было преступлением, влекущим за собой строгую ответственность. Не судить по объективному критерию того, что сделал бы разумный родитель.Гражданско-правовая концепция небрежности не должна была быть импортирована в преступление.
Невиновен
Stone & Dobinson, R v [1977] CA:
[Закон и мораль – непредумышленное убийство – принятие на себя обязанностей по уходу за немощным человеком – безразличие к очевидному риску причинения вреда здоровью – достаточный для доказательства безрассудства]
D’s жил с эксцентричной F, которая страдала анорексией. Ф умер в постели.
Проведено:
(i) Ответчики взяли на себя обязанность заботиться о ней.
(ii) Безрассудство, доказанное безразличием к очевидному риску или фактическим предвидением риска и принятием этого риска.Однако простой неосторожности было недостаточно, чтобы доказать безрассудство.
Оба виновны.
Youssoupoff v MGM Pictures (1934) CA:
[Закон и мораль – мораль меняется со временем]
C жаловалась, что ее можно отождествить с персонажем принцессы Наташи в фильме «Распутин, безумный монах». Принцесса потребовала возмещения ущерба на том основании, что в фильме предполагалось, что из-за ее идентификации с «принцессой Наташей» она была соблазнена Распутиным.
На руках: принцессе присуждена компенсация в размере 25 000 фунтов стерлингов.
Утверждалось, что если фильм и указывает на какие-либо отношения между Распутиным и «Наташей», то это указывает на изнасилование Наташи, а не на соблазнение.
Slesser LJ счел фильм диффамационным независимо от того, предполагал ли он изнасилование или соблазнение:
«Я лично не вижу, что с точки зрения истца имеет хоть какое-то значение, предполагает ли эта клевета, что она была соблазнена или изнасилована. Вопрос о том, является ли она более или менее нравственной, кажется мне несущественным при рассмотрении этого вопроса о том, была ли она опорочена, и по той причине, что, как часто указывалось в клевете, дело не только если это вызывает у истца ненависть, насмешки или презрение по причине некоторой моральной дискредитации с ее стороны, но также если это ведет к тому, что истца избегают и избегают, и это без какой-либо моральной дискредитации с ее стороны.Именно по этой причине лица, которых считали невменяемыми или страдающими определенным заболеванием, а также в других случаях, когда на них нельзя было возложить прямую моральную ответственность, считались имеющими право подать иск в защиту их репутация и их честь. Я думаю, можно обратить внимание на тот факт, что дама, о которой говорили, что она была изнасилована, хотя и против ее воли, пострадала в общественной репутации и в возможности получить почтенное внимание в свете.”
Заключение:-
Никогда не может быть твердой оболочки или универсальной формулы, которая могла бы определить, следует ли использовать закон для обеспечения соблюдения морали. Можно только сделать вывод, что уровень соблюдения моральных норм зависит от случая к случаю.
В тех случаях, когда мораль оказывает благотворное и благотворное влияние на общество, при необходимости можно использовать закон для обеспечения соблюдения этой положительной морали. Например, в случае с международными гуманитарными законами определенные моральные нормы также признаются частью закона или в качестве другой иллюстрации того, что все религиозные и моральные нормы предписывают не убивать и не применять сталь, и эта мораль обеспечивается законом.
С другой стороны, та мораль, которая в любой форме оказывает какое-либо вредное воздействие на общество, никогда не должна использовать закон для обеспечения такой морали. Например, празднование Дня святого Валентина в индийском обществе считается аморальным. Но такая мораль никогда не должна принимать институциональную форму закона.
Правительство и управление включают в себя вопросы ценности, вопросы о том, что хорошо и что хорошо для нас, а также что такое зло и что может причинить нам вред. Наставлять нас относительно добра, вести нас к нему и защищать нас от зла — собственного или чужого — все это часть функции закона.Те, кто хочет изгнать добродетель из свода законов, кто хочет изгнать добродетель из закона и сделать законодательство зоной, свободной от морали, сводят на нет эти важные и ценные функции права. Если бы эти люди преуспели, мы и они понесли бы неисчислимый вред, если бы одного из наших самых полезных нравственных воспитателей закрыли или, так сказать, подвергли цензуре. Они заглушат моральный голос закона. Поступая так, они заставили бы замолчать одного из наших самых ценных наставников гражданской добродетели и тем самым разрушили бы одно из наших самых эффективных указаний на благоразумное поведение в обществе и на сопутствующие ему блага.
Все культуры являются выражением глубоко укоренившихся ценностей. Культуры являются историческим продуктом этих ценностей — историческими человеческими последствиями этих ценностей — ценностями, которые иногда ведут к состраданию, красоте, войне, лишениям, героизму или вырождению. Право — это функция культуры — во всех культурах есть право — это означает, что право — это функция ценностей или морали. Закон без ценностей — это культурное самоубийство, к которому стремятся те, кто хочет отделить одно от другого, хотят они того или нет.В наш век все более сложных моральных проблем, когда технический прогресс опережает моральный рост и понимание, мы должны сделать все возможное, чтобы взращивать самых мудрых людей, самые благородные мотивы и самые высокие поступки, на которые мы способны. Нам нужно гораздо лучше использовать закон как воспитателя и морального облагораживателя. Мы должны постоянно напоминать себе, что наилучшей средой для воспитания благородных граждан является хорошо организованное общество, в котором закон коренится в морали. Мы не смеем забывать, что закон является и выражением, и формирователем совести нации.Следовательно, недальновидное и ошибочное движение за отделение права от морали столь же опасно, сколь и невозможно. И для нашей нации, и для нас как личностей наш характер — это наше будущее. Мораль – это судьба.
Примечания:-
[1] Фома Аквинский: Summa Theologica I-II q. 90 а. 4).
[2] Р. Йепес: Fundamentos de Antropología, Памплона, 1996, с. 312.
[3] Серве Пинкерс: Pour une Lecture de Veritatis Splendor, Париж, 1995, стр. 41-42.
[4] Папа Иоанн Павел II, Обращение к Международному союзу католических юристов, нояб.24, 2000.
[5] Аласдер Макинтайр, After Virtue, 1984 (2-е издание), с. 152.
[6] Никто больше, чем Холмс, не продвигал юридический позитивизм. Сегодня его взгляды все больше и больше ставятся под сомнение. Острую критику см.: Alschuler, Albert: Law Without Values. Жизнь, работа и наследие правосудия Холмса, University of Chicago Press, 2002.
[7] The Path of the Law (1897): цитируется в R. George: The Clash ofOrthies, 212). Но даже размер ущерба должен оцениваться в соответствии с мерой справедливости – того, что должно быть причитается, даже если бы не было суда, чтобы оценить его, или внешней силы, чтобы взыскать его.
[8] «Закон — великая вещь — потому что люди бедны, и слабы, и плохи. И он велик, потому что там, где он существует в своей силе, ни один тиран не может быть выше него» (Энтони Троллоп: Дети герцога, гл. 61).
[9] «Ex intima hominis natura haurienda est iuris disciplina» (De legibus, II).
[10] “Omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo, a lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis Corruption”: Summa Theologica (I-II, q.95, ст. 2).
[11] Адрес от 9 мая 1992 г.: AAS 85 (1993). стр. 498-499).
[12] Источники христианской этики, 1995, стр. 38-39.
[13] Джон Аллен: Все люди Папы, с. 103.
[14] Первые вещи: исследование первых принципов морали и справедливости, 1986, стр. 3-8.
[15] 112 С. Кт. 2791, 2807 [1992].
[16] Позитивизм и разделение права и морали (1957-58) 71 Harvard Law Review на стр. 601 n 25
[17] The Philosophy of a Law, ed. Р.М. Дворкин, издательство Оксфордского университета, Лондон, 1977.
ISBN No: 978-81-928510-1-3
Распечатать эту статью
Биография автора: Ассоциированный адвокат, SNG & Partners
Электронная почта: [email protected]
Веб-сайт: http://www.legalserviceindia.com
Просмотров: 5899
Комментарии :Можно ли нарушать закон?; Вопрос поднимают недавние инциденты гражданского неповиновения в США.Здесь философ исследует фундаментальную моральную проблему, старую как Сократ.
Это один из стандартных аргументов, который приводится, часто совершенно искренне, против деятельности таких людей, как сторонники Конгресса за расовое равенство, которые приступают к изменению законов, которые они считают нежелательными, резко нарушая их. Такие группы часто осуждают за риск беспорядков и распространение неуважения к закону, тогда как, как утверждается, они могли бы достичь своих целей гораздо более справедливо и патриотично, оставаясь в рамках закона и ограничиваясь судами и методами наказания. мирное убеждение.
Теперь, я считаю, совершенно верно, что есть более веские основания для повиновения закону, в том числе плохому закону, в демократии, чем в диктатуре. Предположительно, с людьми, которые должны соблюдать закон, были проведены консультации, и у них есть законные каналы, по которым они могут выражать свои протесты и добиваться реформ. Один из способов определить демократию — сказать, что это система, целью которой является предоставление альтернатив гражданскому неповиновению. Тем не менее, применительно к той ситуации, с которой столкнулся, скажем, CORE, эти обобщения, как мне кажется, становятся жестоко абстрактными.
Основное заблуждение в утверждении, что в условиях демократии гражданское неповиновение никогда не может быть оправдано, заключается в том, что оно смешивает идеалы или цели демократии с неизбежно далекими от совершенства достижениями демократии в любой данный момент. В соответствии с демократическими идеалами законы демократии могут наделять отдельных лиц правами и полномочиями, которые теоретически позволяют им работать на законных основаниях для устранения несправедливости.
Однако на самом деле эти права и полномочия могут быть пустыми.Полиция может быть враждебной, суды могут быть предвзятыми, выборы сфальсифицированы, а средства правовой защиты, доступные человеку, могут оказаться бесполезными против этих зол.
Хуже того, большинство, возможно, продемонстрировало в серии свободных и честных выборов, что оно непоколебимо поддерживает то, что меньшинство считает невыразимым злом. Это, очевидно, имеет место сегодня во многих частях Юга, где белое большинство либо выступает против десегрегации, либо не так рвется к ней, как негритянское меньшинство.Готовы ли мы сказать, что большинство никогда не ошибается? Если нет, то нет абсолютно убедительной причины, по которой мы неизменно должны придавать результатам выборов большее значение, чем соображения элементарной справедливости.
Верно, конечно, что одна ласточка не делает лета и что мерилом правовых демократических процессов является не тот или иной конкретный успех или неудача, а скорее общее направление, в котором эти процессы движутся в долгосрочной перспективе . Тем не менее, позиция, согласно которой нарушение закона никогда не может быть оправдано, пока существуют законные альтернативы, преувеличивает эту важную истину.Он не сталкивается по крайней мере с тремя важными исключениями.
Во-первых, драматическое неповиновение закону со стороны меньшинства может быть единственным эффективным способом привлечь внимание или заручиться поддержкой большинства Наиболее классические случаи гражданского неповиновения, от первых христиан до Ганди и его сторонников, иллюстрируют эта правда. Гражданское неповиновение, как никакая другая техника, может пристыдить большинство и заставить его задаться вопросом, как далеко оно готово зайти, насколько серьезно оно действительно привержено защите статус-кво.
%PDF-1.4 % 548 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 548 188 0000000016 00000 н 0000004887 00000 н 0000005120 00000 н 0000005172 00000 н 0000005214 00000 н 0000005276 00000 н 0000005312 00000 н 0000006329 00000 н 0000006409 00000 н 0000006489 00000 н 0000006569 00000 н 0000006648 00000 н 0000006727 00000 н 0000006806 00000 н 0000006885 00000 н 0000006964 00000 н 0000007043 00000 н 0000007122 00000 н 0000007202 00000 н 0000007281 00000 н 0000007360 00000 н 0000007439 00000 н 0000007518 00000 н 0000007598 00000 н 0000007678 00000 н 0000007758 00000 н 0000007838 00000 н 0000007918 00000 н 0000007997 00000 н 0000008076 00000 н 0000008156 00000 н 0000008235 00000 н 0000008314 00000 н 0000008394 00000 н 0000008473 00000 н 0000008553 00000 н 0000008632 00000 н 0000008712 00000 н 0000008791 00000 н 0000008870 00000 н 0000008950 00000 н 0000009029 00000 н 0000009108 00000 н 0000009186 00000 н 0000009265 00000 н 0000009343 00000 н 0000009422 00000 н 0000009500 00000 н 0000009578 00000 н 0000009656 00000 н 0000009734 00000 н 0000009811 00000 н 0000009890 00000 н 0000009970 00000 н 0000010051 00000 н 0000010132 00000 н 0000010212 00000 н 0000010292 00000 н 0000010373 00000 н 0000010454 00000 н 0000010534 00000 н 0000010614 00000 н 0000010695 00000 н 0000010776 00000 н 0000010856 00000 н 0000010936 00000 н 0000011017 00000 н 0000011098 00000 н 0000011179 00000 н 0000011260 00000 н 0000011340 00000 н 0000011420 00000 н 0000011501 00000 н 0000011582 00000 н 0000011663 00000 н 0000011744 00000 н 0000011824 00000 н 0000011904 00000 н 0000011985 00000 н 0000012066 00000 н 0000012146 00000 н 0000012226 00000 н 0000012307 00000 н 0000012388 00000 н 0000012469 00000 н 0000012550 00000 н 0000012630 00000 н 0000012710 00000 н 0000012791 00000 н 0000012872 00000 н 0000012953 00000 н 0000013034 00000 н 0000013114 00000 н 0000013194 00000 н 0000013275 00000 н 0000013356 00000 н 0000013437 00000 н 0000013518 00000 н 0000013598 00000 н 0000013678 00000 н 0000013759 00000 н 0000013840 00000 н 0000013921 00000 н 0000014002 00000 н 0000014082 00000 н 0000014162 00000 н 0000014243 00000 н 0000014324 00000 н 0000014404 00000 н 0000014484 00000 н 0000014565 00000 н 0000014646 00000 н 0000014727 00000 н 0000014808 00000 н 0000014888 00000 н 0000014968 00000 н 0000015049 00000 н 0000015130 00000 н 0000015211 00000 н 0000015292 00000 н 0000015372 00000 н 0000015452 00000 н 0000015533 00000 н 0000015614 00000 н 0000015694 00000 н 0000015774 00000 н 0000015855 00000 н 0000015936 00000 н 0000016016 00000 н 0000016096 00000 н 0000016176 00000 н 0000016569 00000 н 0000017056 00000 н 0000017135 00000 н 0000017216 00000 н 0000017598 00000 н 0000017915 00000 н 0000020423 00000 н 0000020706 00000 н 0000020987 00000 н 0000021215 00000 н 0000021700 00000 н 0000022249 00000 н 0000022404 00000 н 0000022934 00000 н 0000023295 00000 н 0000025830 00000 н 0000031701 00000 н 0000034395 00000 н 0000038440 00000 н 0000043642 00000 н 0000045063 00000 н 0000046200 00000 н 0000046410 00000 н 0000047306 00000 н 0000047500 00000 н 0000048027 00000 н 0000048136 00000 н 0000048194 00000 н 0000048345 00000 н 0000048394 00000 н 0000048488 00000 н 0000048578 00000 н 0000048627 00000 н 0000048740 00000 н 0000048843 00000 н 0000048892 00000 н 0000049084 00000 н 0000049133 00000 н 0000049253 00000 н 0000049367 00000 н 0000049571 00000 н 0000049620 00000 н 0000049764 00000 н 0000049900 00000 н 0000050106 00000 н 0000050154 00000 н 0000050352 00000 н 0000050506 00000 н 0000050555 00000 н 0000050603 00000 н 0000050652 00000 н 0000050811 00000 н 0000050860 00000 н 0000051041 00000 н 0000051090 00000 н 0000051139 00000 н 0000004056 00000 н трейлер ]/предыдущая 222116>> startxref 0 %%EOF 735 0 объект >поток hagged MLA_vv-E(,_bM@Hh5hF/x)%6/$8Mh=A9v[Kc$ʛi`8 63l`]07rE0&L88ͷ|&k0w.

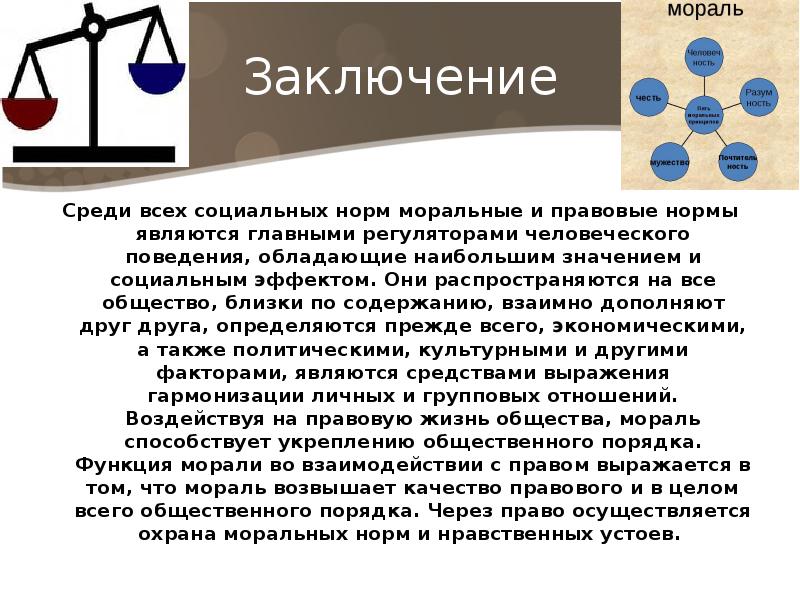 д., посетив официальный веб-сайт Суда www.icc-cpi.int). Каковы будут обязательства каждого правительства сотрудничать с Международным уголовным судом?
д., посетив официальный веб-сайт Суда www.icc-cpi.int). Каковы будут обязательства каждого правительства сотрудничать с Международным уголовным судом?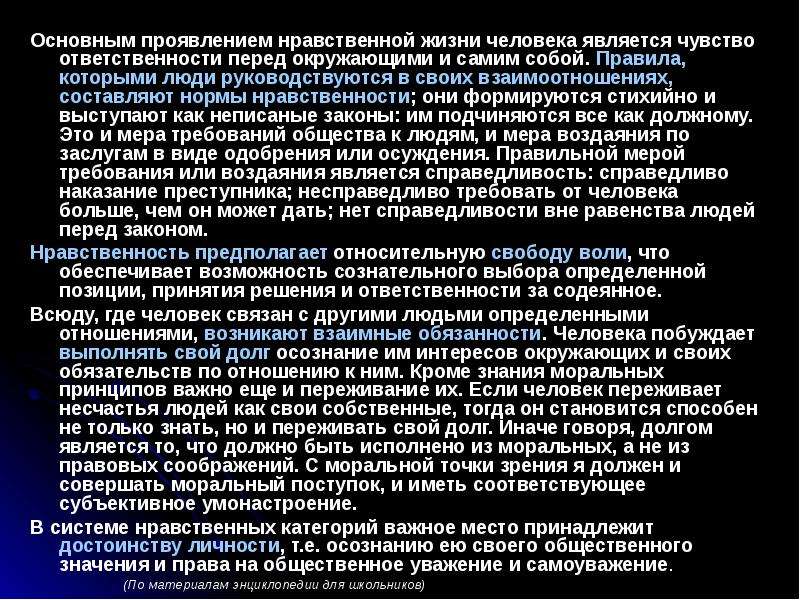

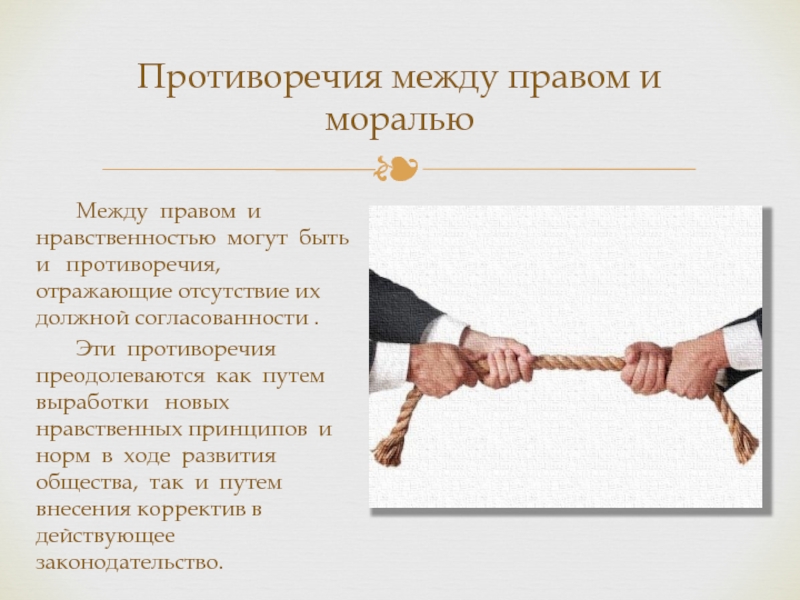 Сокрытие такой информации является дисциплинарным проступком, последствием которого являются меры ответственности, предусмотренные статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Сокрытие такой информации является дисциплинарным проступком, последствием которого являются меры ответственности, предусмотренные статьей 57 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».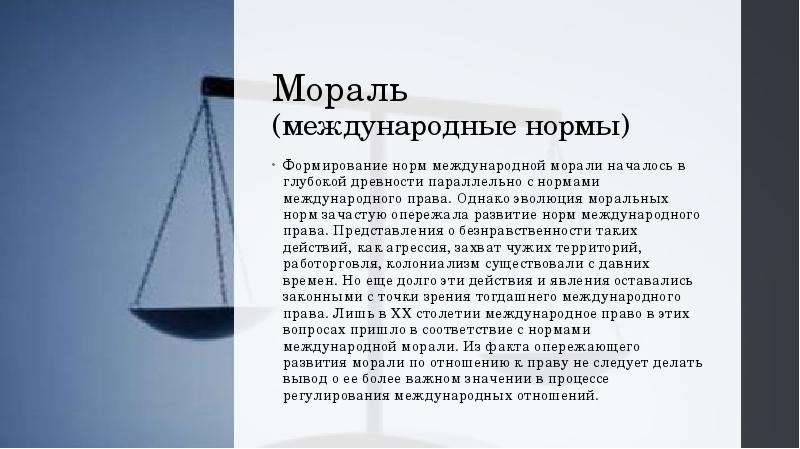 Если опубликованная информация не подтвердится, государственный служащий имеет право на публикацию результатов служебной проверки на официальном сайте ФАС России (сайте территориального органа) и на содействие антимонопольного органа по защите его чести и достоинства в суде.
Если опубликованная информация не подтвердится, государственный служащий имеет право на публикацию результатов служебной проверки на официальном сайте ФАС России (сайте территориального органа) и на содействие антимонопольного органа по защите его чести и достоинства в суде.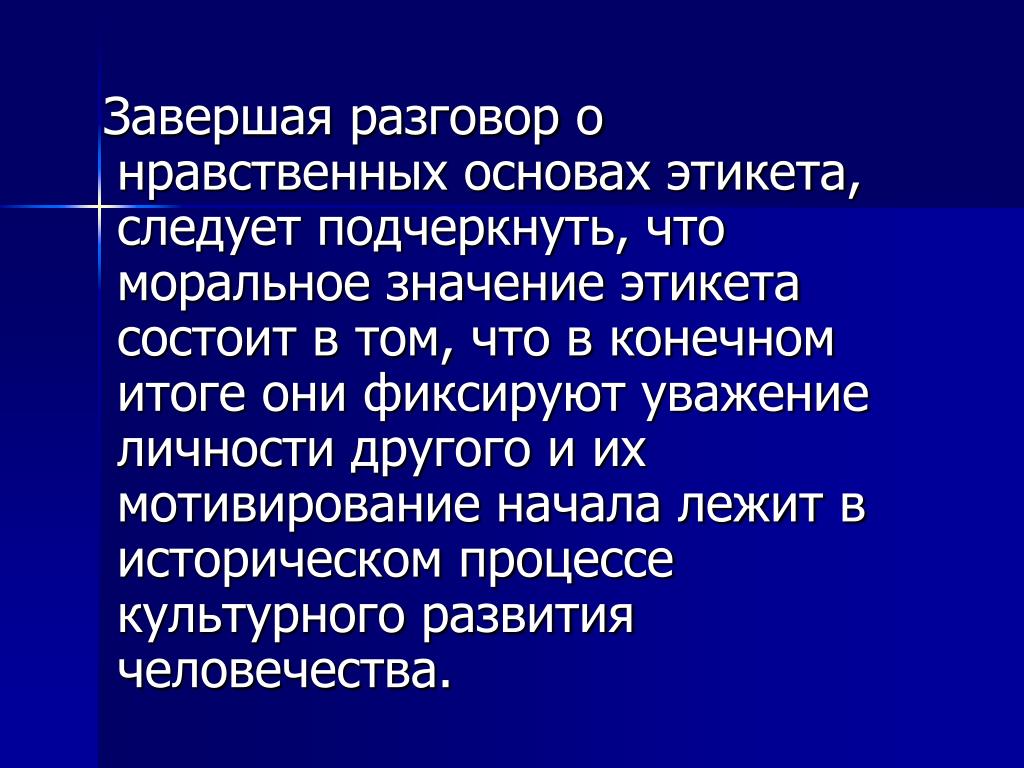 Итак, превышение скорости тогда было незаконным, но можем ли мы считать его аморальным сейчас?
Итак, превышение скорости тогда было незаконным, но можем ли мы считать его аморальным сейчас?