“Пятый этаж”: мечтают ли россияне о плановой экономике?
Автор фото, Getty
Подпись к фото,Больше половины россиян считают, что стране больше подходит плановая экономика
Аналитический центр Юрия Левады в конце января провел всероссийский опрос о предпочтительных моделях экономической и политической систем.
Советскую систему одобрили 37% опрошенных, плановое хозяйство считают более правильным 52%. За демократию западного образца высказались 13% граждан, за рыночные отношения – около четверти опрошенных.
Кстати, за последние 20 лет число сторонников плановой экономики особо не менялось, а вот количество поклонников демократических институтов за то же время сократилось вдвое.
Как интерпретировать эти цифры?
Загрузить подкаст передачи “Пятый этаж” можно здесь.
Михаил Смотряев: Добрый вечер, семнадцатое февраля, среда.
На сайте “Левада-центра” приводятся данные, начиная с февраля 1996 года по политическим системам, а по экономическим – с 1992-го. То есть имеется статистический массив, который можно изучать.
Что касается цифр, особенно по экономической системе, связанной с государственным планированием и распределением, ее популярность в феврале 1992 года была наиболее низкой – 29%, потом в течение нескольких лет достигла 50%, и на этом уровне и остается. Хотя 20-25 лет в социологических опросах – это смена поколения. То есть новое поколение так же относится к плановому хозяйству, как и люди, которые хорошо помнят расцвет СССР.
Лев Гудков: Советский человек воспроизводится, но в разных средах по-разному. Если посмотреть по возрастному составу, то видны резкие различия. Среди молодежи советскую систему одобряют 9%, среди людей пенсионного возраста – 64%. В Москве ее одобряют 30%, на селе – 50. Там время как бы застыло. Это неслучайно.
Среди молодежи советскую систему одобряют 9%, среди людей пенсионного возраста – 64%. В Москве ее одобряют 30%, на селе – 50. Там время как бы застыло. Это неслучайно.
Периферия – депрессивная, бедная, менее развиты рыночные отношения. Молодые ничего не помнят о государственной плановой экономике. Советские, особенно брежневские времена, когда был относительный достаток, стабильность, социальные гарантии – идеализированный “золотой век” – служат основанием для критики или негативного отношения к нынешней системе.
Разрыв в доходах центра и периферии огромен, отсюда – ощущение проигрыша. Там сохранились остатки советской отраслевой структуры, системы моногородов, промышленности, связанной с ВПК, неконкурентные, отсталые технологии. Рыночная экономика несет разрушение сложившегося порядка. Без государственной помощи люди жить не в состоянии, поэтому они ностальгируют по прошлому.
Вадим Новиков:
 Но повода для глубокой обеспокоенности нет. Эти вопросы все-таки носят теоретический характер и оторваны от повседневной жизни людей. Это скорее идейный климат, а не оформившиеся желания и намерения. Если смотреть, как это делают экономисты, не на слова, а на дела, поступки, то можно увидеть, что люди предпочитают в действительности. А это дает другую картину.
Но повода для глубокой обеспокоенности нет. Эти вопросы все-таки носят теоретический характер и оторваны от повседневной жизни людей. Это скорее идейный климат, а не оформившиеся желания и намерения. Если смотреть, как это делают экономисты, не на слова, а на дела, поступки, то можно увидеть, что люди предпочитают в действительности. А это дает другую картину.Можно обратиться к потребительскому опыту людей в разных контекстах – там, где потребление определяется государством, и где нет. Скажем, в поликлинике и турагенстве. И даже данные социологических опросов показывают, какие сектора люди считают более проблемными. Люди гораздо лучше отзываются о рыночных секторах.
М.С.: В СССР потребительский опыт был очень ограничен, даже в крупных центрах. Второй пункт в этом опросе – как гражданам видится связь между недостатками экономической системы и местом граждан в ней, и политической системой. В опросах фигурировала советская система до 1990-х годов. Там скачки популярности значительнее, но интерес представляет колонка “нынешняя система”, которая в декабре 1998 года не нравилась почти никому, в феврале 2008-го за нее высказались уже 36%, а в последнем опросе – 23%.
Л.Г.: В конце 1990-х резко возросло недовольство Ельциным и его окружением, произошло очень сильное падение жизненного уровня, понятно, что переходный период мало кому нравится. С приходом Путина усилились настроения поддержки авторитарного режима, он опирался на устойчивый рост уровня жизни, поскольку заработала рыночная экономика и пошли доходы от нефти. Пик одобрения как раз приходится на 2008 предкризисный год. Плюс патриотический подъем в связи с войной в Грузии.
После кризиса начинается обвал, особенно в 2009 году, потом ситуация опять начинает восстанавливаться. В 2012-2013 годах рост недовольства и неодобрения системы. А после Майдана и развертывания очень агрессивной антиукраинской пропаганды и аннексии Крыма поддержка растет. Здесь опять вмешивается экономический кризис, опять возникает неуверенность и цифра начинает снижаться.
М.С.: То есть важную роль играют внешние события – кризис ведь тоже начался не в России.
Л.Г.: Мы действительно имеем дело не с повседневными вещами, символическими, там немного другие закономерности.
М.С.: Как сочетается поддержка нынешнего режима с ностальгией по советскому прошлому? Советская политическая система сегодня нравится 30%, плановое хозяйство – 50%.
В.Н.: Поддержка политический системы – это акт лояльности, акт самоидентификации. Как проверить серьезность привязанности к нынешним политическим институтам? Опять же по поступкам, которые показывали бы вовлеченность человека в эту политическую систему, членство в парламентских партиях, готовность тратить время на политическую активность.
Лояльность парламентским партиям невелика, так что речь идет о поверхностных, дежурных высказываниях, слабо связанных с обыденной жизнью. Если бы спрашивали не про социализм и капитализм, а про конкретный экономический опыт, то мы бы увидели, что они на самом деле выбирают.
М.С. : То есть поддержка планового хозяйства 50% населения означает, что они не вписались в нынешние экономические реалии?
: То есть поддержка планового хозяйства 50% населения означает, что они не вписались в нынешние экономические реалии?
В.Н.: Не вписались, не всегда осмыслили свой опыт, плюс чувство сожаления о прошедших временах.
М.С.: Можно не считать это ностальгией в чистой форме? То есть “мы бы оттуда вернули ракеты и колбасу по 2-20, а возможность ездить за границу сохранить”.
Л.Г.: Приблизительно похоже. Но за границу ездит менее 20%. Речь скорее идет об идентификации. Но связь между политическими представлениями и экономическими предпочтениями все же есть, хоть и не прямая. В последние годы государственный сектор явно рос, сегодня он составляет около 58%, что особенно ощутимо для пенсионеров, бюджетных работников, которые в рыночной среде чувствуют себя неуверенно.
Кроме того, это люди низкообразованные. Чем выше образование, тем сильнее предпочтение и западной демократии, и нынешней ситуации. Но все равно, это не желание вернуться в СССР, а способ выражения недовольства действительностью, социальной политикой, бедностью публичного пространства. Другого способа выразить его нет.
Другого способа выразить его нет.
М.С.: В экономике 1980-х, помимо вертикальных, были еще широко развитые горизонтальные связи, а в современной экономике ее госсектору сейчас это несвойственно. Но строгая иерархическая система с немалым элементом планирования и вмешательством государства никуда не делась? Преждевременно говорить о том, что в России построен рынок?
В.Н.: Реальную рыночную экономику сравнивают с воображаемой плановой. По рейтингу свободы экономики Россия находится на сотом месте в мире, она в большой мере контролируется государством. То, что сейчас происходит в России, рыночной экономикой не является. Последние события в Москве показали, что экономика основана не на праве собственности, а на праве силы.
Государство определяет происходящее во всех секторах, как рычагами законодательными, так и косвенными, в том числе с использованием произвола. Настоящей частной собственности мы не получили. Это совершенно отлично от того, что существует в странах Запада.
М.С.: Но это очень похоже на социалистическую действительность. Этим и диктуется устойчивость этой ностальгии.
Л.Г.: Не только. Здесь еще некоторый дефицит уверенности в себе, потребность в социальной защите. Дефицит учреждений, которые обеспечивают защищенность человеческого существования в экономической ситуации, в трудовых отношениях и так далее. Это ощущения неуверенности и грозящего социального произвола.
М.С.: Прошлое воспринимается как стабильная система.
Урок 5. экономические системы – Экономика – 10 класс
Название предмета и класс: экономика, 10 класс.
Номер урока и название темы: урок №5 «Экономические системы».
Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:
- Какие главные вопросы стоят перед любой экономической системой?
- Типы экономических систем, их характеристики и отличия.
- Особенности смешанной экономической системы.
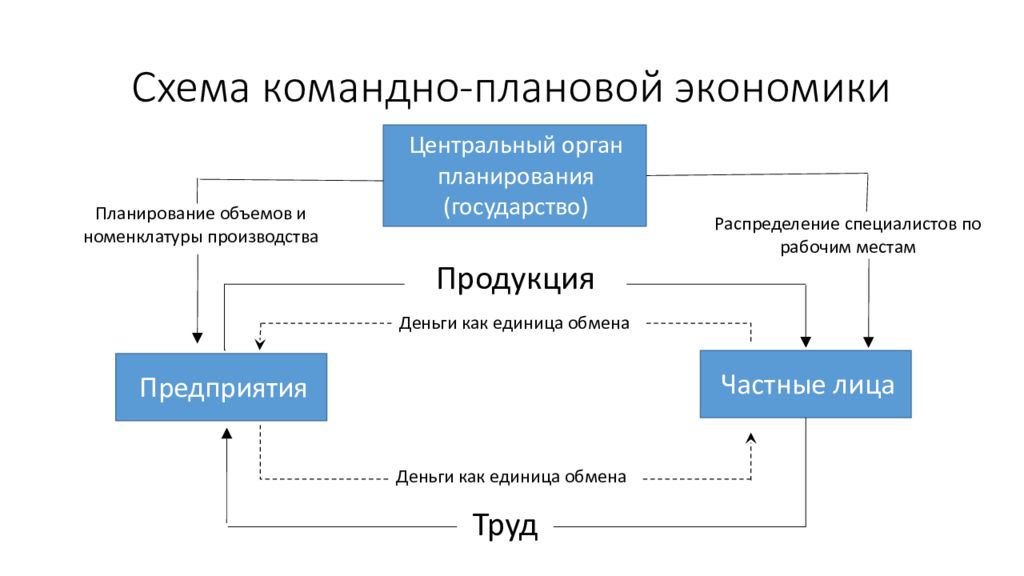
Глоссарий по теме: экономическая система, основные вопросы экономики, традиционная экономическая система, планово-административная экономическая система, рыночная экономическая система, рынок, частная собственность, смешанная экономическая система, общественные блага, внешние эффекты, приватизация, национализация.
Теоретический материал для самостоятельного изучения
Главная задача экономики – выбрать наиболее рациональный способ распределения ограниченных факторов производства, чтобы в условиях ограниченности ресурсов обеспечить удовлетворение потребностей.
Для её решения необходимо дать ответ на основные вопросы экономики.
Что производить? Так как из-за ограниченности ресурсов нельзя произвести всё, что хочется, необходимо решить, какие из взаимоисключающих товаров и услуг следует производить и в каком количестве.
Как производить? Важно определить, какие технологии и ресурсы будут использоваться при производстве.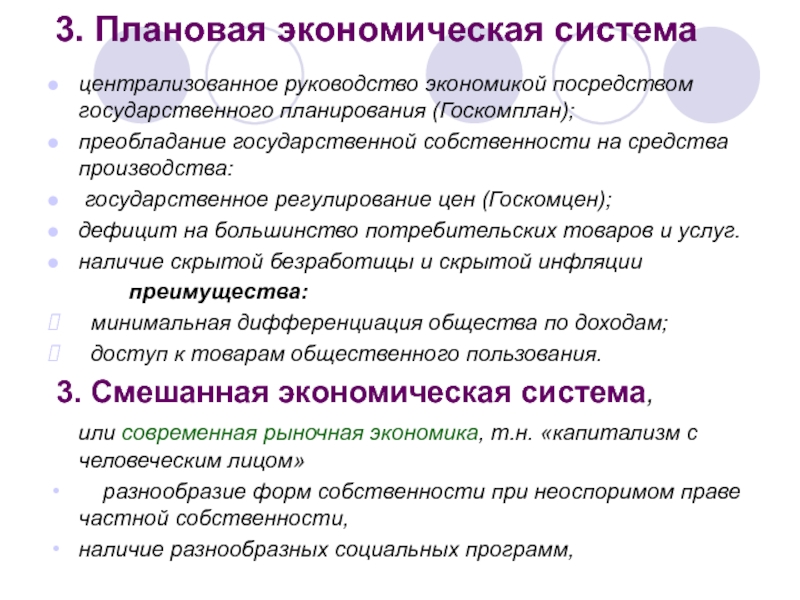
Для кого производить? Так как товаров на всех не хватает, необходим механизм распределения.
В зависимости от того, как общество отвечает на эти вопросы, различают следующие типы экономических систем: традиционная, рыночная, плановая (централизованная, командная).
Традиционная экономика. Экономические вопросы решаются на основе обычаев и традиций. Характерными признаками традиционной экономики являются примитивные технологии, преобладание ручного труда. Элементы этой экономики присущи слаборазвитым странам. Достоинства этой системы – предсказуемость и стабильность. Недостатки – неспособность к прогрессу, низкий уровень жизни.
Плановая (административно-командная, централизованная) базируется на государственной собственности и предполагает, что экономика должна развиваться по единому и обязательному для всех плану. А ответы на основные вопросы экономики делаются на основе вышестоящих административных структур. Примером может служить экономика Советского Союза. Достоинства этой системы – стабильность экономики, возможность мобилизовать ресурсы для быстрого решения глобальных проблем. Недостатки – медленное внедрение новых технологий, отсутствие экономических стимулов, неэффективное использование ресурсов.
Достоинства этой системы – стабильность экономики, возможность мобилизовать ресурсы для быстрого решения глобальных проблем. Недостатки – медленное внедрение новых технологий, отсутствие экономических стимулов, неэффективное использование ресурсов.
В рыночной экономике ответы на основные экономические вопросы определяются рынком.
Рынок – это механизм взаимодействия покупателя с продавцом, на основе которого совершаются сделки купли-продажи. Важнейшими причинами развития рыночной экономики являются разделение труда и появление частной собственности на основные факторы производства и результаты труда. Главные вопросы в условиях рыночной экономики решаются на основе системы свободного ценообразования. Вопрос «что производить?» решается производителями с учётом покупательского спроса. «Как производить?» – выбирается наиболее эффективный способ производства. Вопрос «для кого производить?» решается в соответствии с платёжеспособностью покупателей.
Существует большое количество рынков.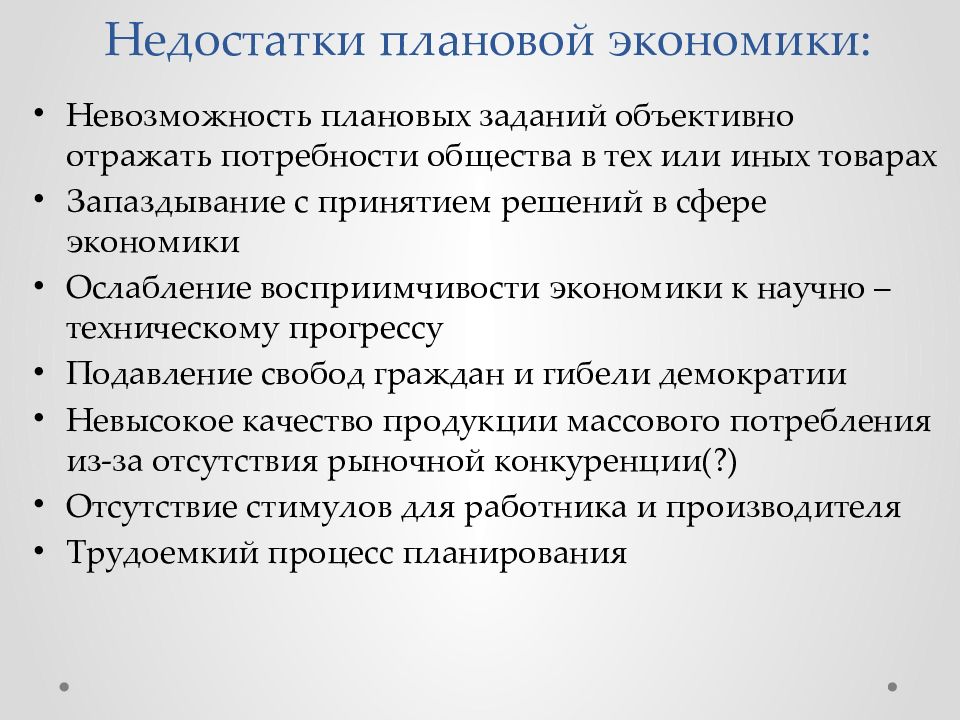 Их классифицируют по следующим признакам: экономическое назначение объектов, географическое положение, отрасли. Рынки постоянно взаимодействуют, образуя сложную систему.
Их классифицируют по следующим признакам: экономическое назначение объектов, географическое положение, отрасли. Рынки постоянно взаимодействуют, образуя сложную систему.
Основные преимущества рыночной экономики – стимулируется высокая эффективность и предприимчивость, быстрое внедрение новых технологий, у потребителей больше прав и возможностей. Основные недостатки – нестабильность экономики, усиление неравенства в обществе, безразличие к ущербу, который приносит бизнес человеку и природе.
Итак, экономическая система – это способ согласования экономической деятельности людей, определяющий ответы на основные экономические вопросы. Тип экономической системы определяют отношения собственности на средства производства и механизм распределения произведённых экономических благ.
В экономической теории различают следующие формы собственности.
Частная собственность строится на присвоении факторов производства отдельными частными лицами.
Общественная собственность основана на общественном присвоении факторов производства, зачастую используется понятие государственная собственность, когда собственность находится в распоряжении государственных органов.
В реальной жизни страны живут в условиях смешанной экономики, системы, которая соединила в себе признаки традиционной, плановой и рыночной систем. Смешанная экономика пытается решить проблемы, которые отдельные экономические системы решить не в состоянии: инфляция, сильное социальное неравенство, отсутствие социальных гарантий, безработица, цикличность развития экономики, возникновение монополий, необходимость создания общественных благ.
Общественные блага – экономические блага, использование которых одними членами общества не исключает одновременного их использования другими членами общества. К ним относятся, например, национальная оборона, деятельность средств оповещения об опасности наводнения и землетрясения, пожарная охрана и пр.
Основные характеристики общественных благ – неисключаемость, неконкурентность и бесприбыльность. Предоставление населению общественных благ становится одной из функций государства в рыночной экономике, а их финансирование происходит из центрального и местного бюджетов.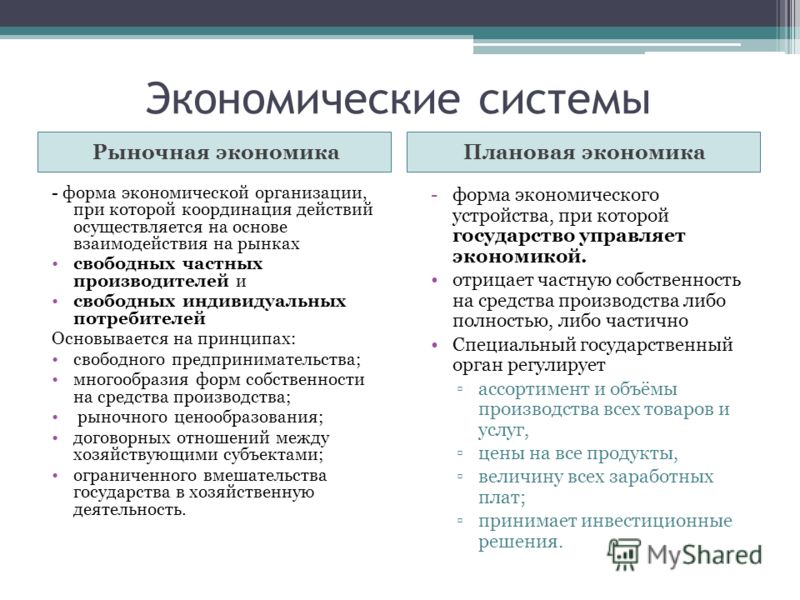
Внешние эффекты – положительные или отрицательные воздействия на тех, кто не участвует в производстве или потреблении данного товара. Примером отрицательного внешнего эффекта может служить загрязнение окружающей среды предприятием. Положительный эффект – световое табло рекламного щита, которое в вечернее время освещает улицу.
В смешанной системе контроль осуществляется совместно частными и общественными организациями. Формы собственности при необходимости могут преобразовываться одна в другую.
Приватизация – процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной собственности в частные руки. Обратный процесс называется национализация – передача из частной собственности в собственность государства крупных предприятий, земель, целых отраслей народного хозяйства.
Важнейшей теоретической и практической проблемой является определение границ допустимых пределов вмешательства государства в экономику. Излишнее вмешательство приведёт к разрушению механизма рыночного саморегулирования.
Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля
- Выберите верный вариант ответа.
Цены на товары указывают, где больше спрос. Туда и устремляются ресурсы производства. Такая ситуация характерна для экономики:
1) традиционной;
2) командной;
3) кризисной;
4) рыночной.
Ситуация подходит для рыночной экономики.
- Распределите перечисленные ниже признаки в соответствующую графу таблицы.
Признаки: господство натурального хозяйства; экономическая самостоятельность производителей; контроль над распределением благ со стороны государства; преобладание государственной собственности; «простой труд» как основа хозяйства.
Ответ: в таблице 1.
Таблица 1 – Решение задания практического модуля
Рыночная экономика | Командная экономика | Традиционная экономика |
экономическая самостоятельность производителей | контроль над распределением благ со стороны государства, преобладание государственной собственности | господство натурального хозяйства, «простой труд» как основа хозяйства |
Обязательная и дополнительная литература по теме урока:
- Королёва Г.
 Э. Экономика. 10-11 классы: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. Э. Королёва, Т. В. Бурмистрова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 192 с. : ил., с. 24 – 29.
Э. Экономика. 10-11 классы: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Г. Э. Королёва, Т. В. Бурмистрова. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 192 с. : ил., с. 24 – 29.
Социолог ″Левада-центра″: Россияне оказались не готовы к рыночной экономике | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW
Больше половины россиян считают экономику, основанную на государственном планировании и распределении, более правильной, чем рыночную. Таковы результаты исследования, которое провели социологи “Левада-центра”, в конце января опросившие 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов. За плановую экономику высказались 52 процента респондентов, тогда как экономическую модель на основе частной собственности и рыночных отношений поддержали лишь 26 процентов.
Согласно результатам того же опроса, 37 процентов россиян предпочли бы советскую политическую систему. Нынешняя система устраивает 23 процента, тогда как за демократию по образцу западных стран высказались 13 процентов опрошенных. С чем связана ностальгия россиян по советским временам? Результаты опроса в интервью DW прокомментировала Марина Красильникова, глава отдела изучения доходов и потребления “Левада-центра”.
С чем связана ностальгия россиян по советским временам? Результаты опроса в интервью DW прокомментировала Марина Красильникова, глава отдела изучения доходов и потребления “Левада-центра”.
DW: Как вы можете объяснить результаты опроса? Почему плановую экономику предпочли вдвое больше россиян, чем рыночную?
Марина Красильникова: Это устойчивое мнение, которое сформировалось у россиян за последние 20 лет. Причина тому – разочарование в рыночных переменах, с надеждами на которые общество вошло в период трансформации в начале 90-х годов. В то время многие верили, что можно перейти к модели экономического процветания за счет повсеместного внедрения частной собственности и развития рыночных отношений.
Марина Красильникова
Но реализация этого плана на практике сильно разочаровала россиян, поскольку она была связана с существенным падением уровня жизни и нарастанием дезорганизации общества. То есть среднестатистический россиянин и государственные институты оказались не готовы к действиям, которых требовала такая экономическая модель.
В результате общественное сознание не справилось с поставленной перед ним задачей и теперь ищет спасение в уже известных моделях экономики, в частности, государственного распределения и планирования. Такая модель в значительной мере снимает с человека личную ответственность за принятие решений, за организацию своей жизни. Кроме того, люди связывают государственное планирование с порядком. Желание упорядочить экономические отношения, установить правила, обязательные для всех участников этих отношений, – вот что, на мой взгляд, стоит за высокой долей тех, кто выбирает государственное распределение и планирование.
– Почему люди оказались не готовы к самостоятельному принятию решений и продолжают полагаться на государство?
– Это тоже наследие 90-х. Тогда у людей не было большого опыта самостоятельного принятия решений. Напротив, существовала утвердившаяся модель поведения советского человека, когда сфера его личной ответственности была ограничена простыми задачами. Каждый отвечал только за текущее потребление своей семьи, а жилищные вопросы, образование и медицинское обслуживание были прерогативой государства. В трудовых отношениях было то же самое: человек был наемным работником и не думал о том, откуда берутся средства на его зарплату.
Каждый отвечал только за текущее потребление своей семьи, а жилищные вопросы, образование и медицинское обслуживание были прерогативой государства. В трудовых отношениях было то же самое: человек был наемным работником и не думал о том, откуда берутся средства на его зарплату.
Теперь у большинства россиян по-прежнему очень ограниченные ресурсы для самостоятельного жизнеобеспечения. Уровень жизни остался низким, большинство не может выйти за рамки текущего потребления. У людей нет возможности решать жилищные вопросы или получать качественные медицинские услуги. Чаще всего предел возможностей – покупка продуктов и одежды и оплата коммунальных услуг.
– На кого люди чаще всего возлагают ответственность за свой низкий уровень жизни?
– Сейчас три четверти населения уверены, что страна пребывает в кризисе. При этом преобладает мнение, что его причина – это внешние факторы: падение цен на энергоносители, связанная с этим динамика валютных курсов и в меньшей степени – западные санкции.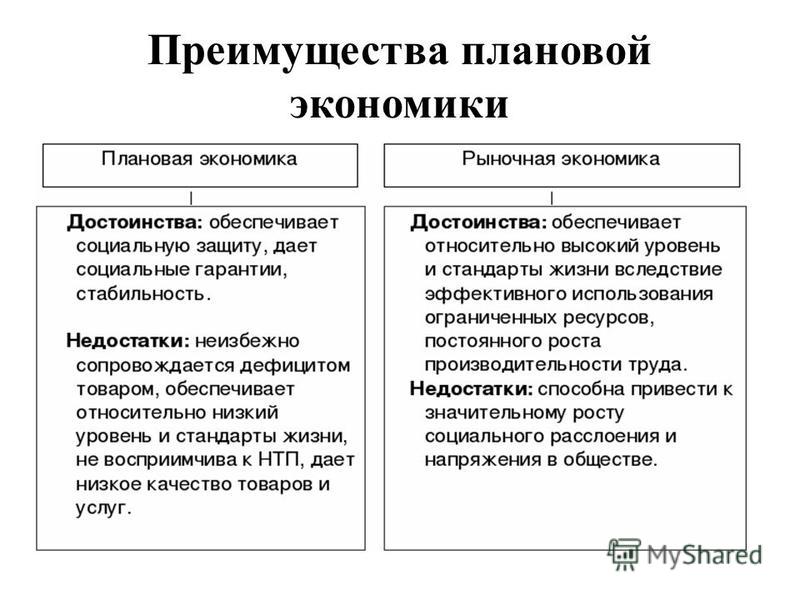 Впрочем, российское население довольно негативно оценивает и экономическую политику правительства. Более половины участников опросов регулярно говорят о том, что власти вряд ли справятся с текущим кризисом в ближайшее время.
Впрочем, российское население довольно негативно оценивает и экономическую политику правительства. Более половины участников опросов регулярно говорят о том, что власти вряд ли справятся с текущим кризисом в ближайшее время.
– Тем не менее, согласно результатам вашего последнего опроса, почти четверть населения считает нынешнюю политическую систему самой предпочтительной. Почему, несмотря на кризис, россияне придерживаются такого мнения?
– Я не вижу здесь противоречия. В начале двухтысячных годов происходило существенное повышение уровня жизни россиян, за это время почти в три раза выросли доходы населения в реальном выражении. На это время, то есть на пик экономического развития страны, пришелся максимум одобрения нынешней политической системы (в феврале 2008 года доля таких респондентов составляла 36 процентов. – Ред.). Казалось, что именно такая система и нужна стране. Но потом выяснилось, что она дает сбой, а альтернативы при этом нет.
Демократическая система по образцу западных стран сильно дискредитировала себя в глазах россиян в 90-е годы, поскольку она связана с рыночными отношениями. Был некоторый ренессанс в 2012 году, когда у населения появился интерес к демократии. В тот период в России как раз проходили протесты оппозиции. Но этот порыв быстро захлебнулся.
– С чем вы связываете самую большую долю тех, кто считает наиболее приемлемой советскую политическую систему? Это ностальгия по советскому прошлому?
– Думаю, этот результат не стоит понимать так буквально. Скорее всего, 37 процентов в опросе – это люди, которые помнят, что было хорошо, когда граждане не несли ответственность за принятие политических решений, и жизнь при этом казалась им нормальной. То есть это не уход в советскую систему как таковую, а, скорее, голосование за патернализм.
Вместе с тем интересно, что у людей растет чувство неопределенности: количество затрудняющихся ответить оказалось очень велико – 19 процентов.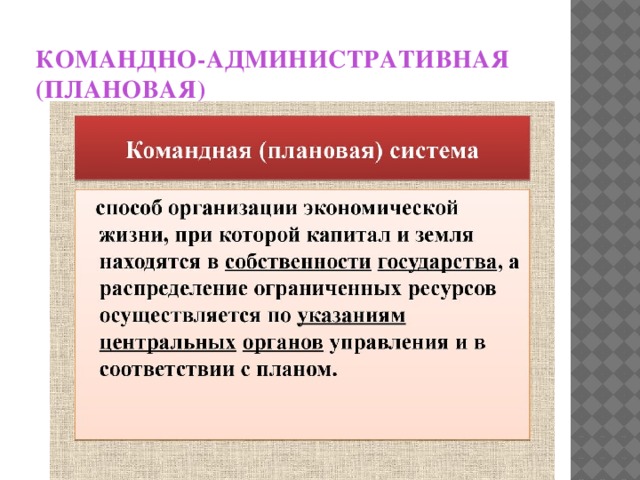 То есть у людей происходит потеря ориентиров, они затрудняются в выборе пути развития.
То есть у людей происходит потеря ориентиров, они затрудняются в выборе пути развития.
Смотрите также:
Виды экономических систем: традиционная экономика, рыночная экономика, командная экономика, смешанная экономика
Экономическая система – это набор взаимосвязанных элементов, которые образуют общую экономическую структуру. Принято выделять 4 вида экономических структур: традиционная экономика, командная экономика, рыночная экономика и смешанная экономика.
Традиционная экономика
Традиционная экономика базируется на натуральном производстве. Как правило, она имеет сильный сельскохозяйственный уклон. Традиционной экономике характерны клановость, узаконенное разделение на сословия, касты, закрытость от внешнего мира. В традиционной экономике сильны традиции и негласные законы. Развитие личности в традиционной экономике сильно ограничено и переход из одной социальной группы в другую, стоящую более высоко в социальной пирамиде, практически невозможен. Традиционная экономика нередко использует натуральный обмен вместо денег.
Традиционная экономика нередко использует натуральный обмен вместо денег.
Развитие технологий в таком обществе происходит очень медленно. Сейчас практически не осталось стран, которые можно было бы отнести к странам с традиционной экономикой. Хотя в отдельных странах можно выделить изолированные общины, ведущие традиционный образ жизни, например, племена в Африке, ведущие образ жизни который мало отличается от того, что вели их далекие предки. Тем не менее, в любом современном обществе еще сохранились остатки традиций предков. К примеру, это может относиться к празднованию религиозных праздников, таких как Рождество. Кроме того, еще осталось разделение профессий на мужские и женские. Все эти обычаи так или иначе отражаются и на экономике: вспомните рождественские распродажи и возникающий вследствии этого резкое увеличение спроса.
Командная экономика
Командная экономика. Командная или плановая экономика характеризиется тем, что централизованно решает что, как, для кого и когда производить. Спрос на товары и услуги устанавливается исходя из статистических данных и планов руководства страны. Командной экономике характерна высокая концентрация производства и монополизм. Частная собственность на факторы производства практически исключена или существуют значительные преграды для развития частного бизнеса.
Спрос на товары и услуги устанавливается исходя из статистических данных и планов руководства страны. Командной экономике характерна высокая концентрация производства и монополизм. Частная собственность на факторы производства практически исключена или существуют значительные преграды для развития частного бизнеса.
Кризис перепроизводства в условиях плановой экономики маловероятен. Более вероятным становится дефицит качественных товаров и услуг. Действительно, зачем строить рядом два магазина, когда можно обойтись и одним или зачем разрабатывать более совершенную технику, когда можно производить технику низкого качества – альтернативы же все равно нет. Из положительных моментов плановой экономики стоит выделить экономию ресурсов, прежде всего людских. Кроме того, плановой экономике характерна быстрая реакция на неожиданные угрозы – как экономические, так и военные (вспомните насколько быстро Советский Союз смог быстро эвакуировать свои заводы на восток страны, вряд ли при рыночной экономике такое возможно повторить).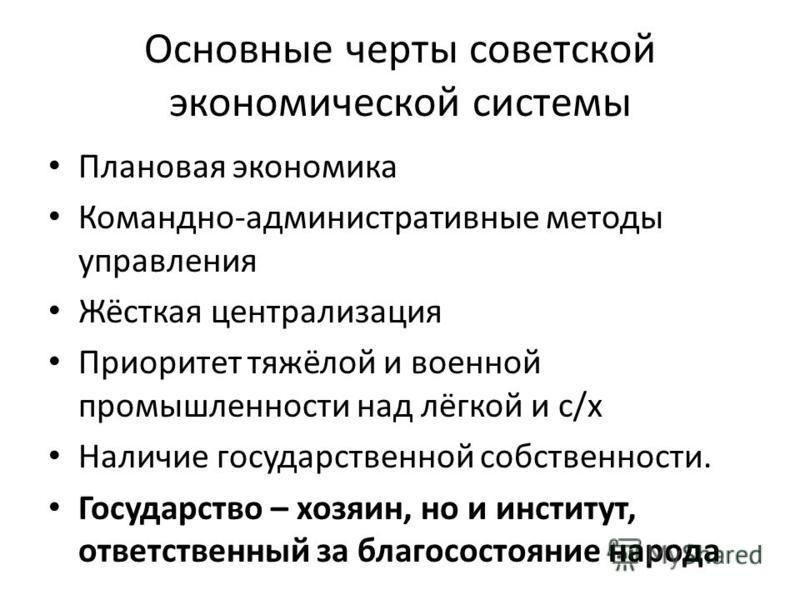
Рыночная экономика
Рыночная экономика. Рыночная экономическая система в отличие от командной основана на преобладании частной собственности и свободного ценообразования на основе спроса и предложения. Государство не играет существенной роли в экономике, его роль ограничивается регулированием ситуации в экономике через законы. Государство только следит за тем чтобы соблюдались эти законы, а любые перекосы в экономике быстро ипраляются “невидимой рукой рынка”.
Долгое время экономисты считали вмешательство государства в экономику вредным и утверждали, что рынок может регулировать сам себя без внешнего вмешательства. однако Великая депрессия опровергла это утверждение. Дело в том, что из кризиса можно было бы выйти лишь в том случае, если бы появился спрос на товары и услуги. А так как ни одна группа экономических субъектов не могла этот спрос сформировать, то спрос мог появиться только лишь со стороны государства. Вот почему во время кризисов государства начинают перевооружать свои армии – тем самым они формируют первичны спрос, который оживляет всю экономику и позволяет ей выйти из замкнутого круга.
Более подробно о правилах рыночной экономики вы узнаете из специальных вебинаров от форекс-брокера Gerchik & Co.
Смешанная экономика
Смешанная экономика. Сейчас практически не осталось стран с только лишь рыночной или командной, или традиционной экономикой. Любая современная экономика имеет элементы как рыночной, так и плановой экономики и, конечно же, в каждой стране есть остатки традиционной экономики.
В наиболее важных отраслях присутствуют элементы плановой экономики, например, это производство ядерного оружия – кто доверит производить такое страшное оружие частной компании? Потребительский сектор практически весь принадлежит частным компаниям, ведь они лучше могут определить спрос на свою продукцию, а также вовремя увидеть новые тенденции. Но некоторые товары могут быть произведены только лишь в условиях традиционной экономики – народные наряды, некоторые продукты питания и прочее, поэтому сохраняются и элементы традиционной экономики.
в чем основная беда госкомпаний — РБК
Без опыта работы в «советском венчуре»
Чубайс неоднократно заявлял, что основная цель корпорации «Роснано» — не генерация рыночного дохода для своего акционера (государства), а создание наноиндустрии. Но что произойдет с этой отраслью, если государство решит закрыть «Роснано» или сократит его финансирование? Смогут ли выжить созданные корпорацией предприятия, если им придется искать средства на рыночных условиях?
Читайте на РБК Pro
В СССР была довольно мощная отрасль пассажирского самолетостроения. Но как только государство убрало подпитку в виде субсидированного топлива и финансирования, отрасль мгновенно рухнула. Ведь как привлекать финансовые ресурсы на конкурентном рынке, советским авиастроителям было неизвестно.
Не способствует корпорация Чубайса и развитию венчурной индустрии в сфере нанотехнологий, хотя эта цель многократно заявлялась топ-менеджментом компании. Венчурная индустрия — это конкуренция за финансовые ресурсы, проекты и людей, которые могут привлекать ресурсы и размещать их в эффективные проекты. У менеджеров «Роснано», как и у советских авиастроителей, нет шанса научиться привлекать финансирование на конкурентном рынке — ведь средства им дает государство. И качественно формировать портфель они также вряд ли научатся. Государство же не требует обеспечивать рыночной доходности на капитал.
При этом создание нормальной венчурной индустрии убивается в зародыше. Частный фонд вынужден привлекать финансовые ресурсы на рынке. Чубайс в интервью РБК называл доходность для западных фондов 12–18% годовых. Если добавить сюда страновой риск и риск рубль/доллар, то получается требуемая доходность в 22–28% в рублях. Сможет ли обычный частный фонд с такой стоимостью капитала конкурировать с «Роснано» за выгодные проекты? Нет, ведь «Роснано» всегда сможет предложить более выгодные условия финансирования — никто не требует с нее обеспечение рыночной доходности вложений.
Сможет ли частный фонд конкурировать за таланты? Зарплаты менеджеров в «Роснано» составляют $30–60 тыс. в месяц. Это очень высокий уровень для фонда, который пока генерирует одни убытки. И это значит, что любой другой венчурный фонд, который захочет войти на этот рынок, должен будет предложить как минимум такой уровень зарплат и больше.
Вероятно, после ликвидации «Роснано» венчурную отрасль придется создавать с нуля и, скорее всего, при найме в новые компании будет предъявляться требование «без опыта работы в советском венчуре».
Невидимая рука рынка
Значит ли это, что государство вообще не должно поддерживать значимые отрасли? Нет, но есть эффективные методы поддержки, минимально искажающие рыночные реалии. Многие из них уже успешно опробованы современным российским государством. Например, льготы по налогам и импортным пошлинам позволили очень быстро создать сборочные производства мировых автогигантов. Представьте, что было бы, если государство создало госкорпорацию «РосАвтоПром».
Частичное субсидирование процентных ставок по кредитам и разумный протекционизм очень сильно помогли развитию сельского хозяйства (до периода антисанкций). Россия сейчас один из крупнейших мировых экспортеров зерна, хотя в периоды позднего Советского Союза импортировала зерно в огромных количествах. В других секторах, например производстве куриного мяса, в 2000-х тоже наблюдался значительный рост производства. Нефтедобычу можно также более эффективно поддерживать, предоставляя льготы по НДПИ на трудноразрабатываемых месторождениях, а не предоставляя государственное финансирование.
Менеджеры госкомпаний, среди которых есть и реформаторы 1990-х, и выпускники ведущих экономических факультетов, понимают, что невидимая рука рынка эффективнее костлявой руки госплана. Но они — рациональные экономические агенты и максимизируют свою полезность в первую очередь. Практически любой, кому предложить компенсацию существенно выше рынка, будет доказывать другим (и самому себе), что именно то, чем он занимается сейчас, нужно для развития экономики. В конце концов политическую ориентацию в отличие от сексуальной можно менять бесчисленное число раз в зависимости от рыночной конъюнктуры.
В конце концов политическую ориентацию в отличие от сексуальной можно менять бесчисленное число раз в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Но если экспансию госкомпаний не остановить, то рано или поздно мы придем к ситуации начала 1990-х, когда истощение госресурсов (основной источник которых сейчас нефтедоллары) приведет к остановке многих предприятий. Ведь основная причина обвального падения ВВП в 1990-е была именно неспособность «мощной» советской промышленности, лишенной директивного распределения ресурсов государством, производить хоть что-то в рыночных условиях.
Существенным отличием будет, скорее всего, сокращение или даже полное истощение нефтегазовых ресурсов, так что рецессия «новых 1990-х» может затянуться на куда более длинный срок. Ведь на основной драйвер роста 2000-х — высокие цены на нефть — можно уже будет не надеяться, просто нечего будет продавать. Поэтому реинкарнации Госплана 2.0 российская экономика может уже не пережить.
План вернулся в экономику / Хабр
Большие данные (big data) создали новые возможности для посткапиталистического будущего. Но, чтобы ими воспользоваться, нашей демократии нужно подрасти.
Но, чтобы ими воспользоваться, нашей демократии нужно подрасти.
Когда СССР распался, вопрос экономического планирования, казалось, был решён раз и навсегда. В борьбе рынка и плана, рынок одержал решительную победу. Спустя тридцать лет после падения берлинской стены, вердикт больше не так однозначен. По всему миру нарастают академические и политические диспуты об экономическом планировании
От переводчика: технологии меняют жизнь, даже некоторые, незыблемые ранее, положения экономики могут пасть. Вашему вниманию — краткая заметка о том, почему экономическое планирование снова на слуху.
Среднее время чтения: 5 минут
Есть три причины неожиданного возвращения. Во-первых, Великая рецессия 2008 года. Этот кризис не только снова показал иррациональность рынков, но усилия по его сдерживанию выражались в масштабном государственном вмешательстве, финансовом и регуляторном. В мире после 2008 года, победа “свободного и чистого” рыночного механизма выглядит не такой окончательной.
Во-вторых, экологический кризис. Когда речь заходит об устойчивом развитии, о планировании многие думают, но называют его иначе. Сейчас эксперты скорее отсылают к “сценариям” экологии, ведущим к будущему без углеводородов. В обсуждении “Зелёного нового курса”, которое разгорелось после поддержки проекта Александрией Окасио-Кортес, слово “планирование” звучит редко. Но сама идея подчинения производственных решений и инвестиций долгосрочным целям, а не прибыли, уже в ходу. Из этого строится экономическое планирование.
Третья причина — развитие информационных технологий. Исторически формы планирования сталкивались с так называемой “проблемой информации”. Социалистические режимы 20 века пытались заменить ценовые сигналы спроса и предложения на предварительное планирование. Это должно было привести к более рациональному распределению ресурсов (рабочей силы, природных ресурсов), и, как следствие, сделать экономику менее подверженной кризисам и безработице. Среди прочего, это требовало возможности заранее предсказать, какие потребности нужно удовлетворить, и передать эти данные производственным единицам.
В 20 веке предварительное планирование определённо провалилось. Чего хотят потребители, сколько они этого хотят — эти два вопроса в рамках плана не решались достаточно эффективно. Собрать нужные данные для координации экономической активности оказалось невозможно. Чтобы разработать план, нужно собрать информацию на уровне макроэкономики, и, в то же время, столкнуться с неизбежными неопределённостями в производстве и переменами в предпочтениях потребителей. Более того, это должно быть сделано вовремя. Искажения в выражении потребностей и инерция производственного аппарата привели систему в тупик.
Один из важнейших вопросов 21 века: меняют ли алгоритмы и большие данные природу этой проблемы? “Революция в больших данных может возродить плановую экономику”, говорится в колонке Financial Times в сентябре 2017. Цифровые платформы — мощный инструмент централизации и управления информацией. В отличии от того, что было в СССР, эту централизацию ведут не люди с их ограниченными когнитивными способностями, ведущими к ошибкам и коррупции. Её ведут алгоритмы.
Её ведут алгоритмы.
Amazon много чего знает о предпочтениях потребителей в разных секторах. Большие данные позволяют совместить макроэкономическую (или количественную) координацию с микроэкономической (или качественной). Платформы способны собирать огромные объёмы информации мгновенно, и и одновременно с этим отслеживать индивидуальные предпочтения. Этого советский Госплан так и не смог добиться.
Последние десятилетия, программы для планирования ресурсов предприятия (ERP) стали основным инструментом управления и в промышленном секторе, и в сфере услуг. Мощнейшие ERP дают всеобъемлющее представление об экосистеме, в которой работают фирмы, в реальном времени. Это значительно улучшает возможности по управлению и преобразованию.
Walmart использует программный комплекс HANA как стимул для инноваций. Данные, полученные от 245 миллионов клиентов, со скоростью одного миллиона транзакций в час, от 17 500 поставщиков на основе внутренней активности фирм, и даже внешние данные, влияющие на бизнес (погода, настроения в социальных сетях, экономические показатели) — из этого сырья аналитики извлекают решения для задач, стоящих перед компанией.
Несмотря ни на что, алгоритмы вполне могут быть социалистами. Возможно ли, что Amazon, Google или программа Industry 4.0 из Германии, готовятся к посткапиталистическому экономическому будущему? Этот аргумент развивается Ли Филлипсом и Михаилом Розворски в их недавней книге People’s Republic of Walmart. Босс Alibaba Джек Ма воспринял идею очень серьёзно:
За последние 100 лет мы убедились, что рыночная экономика — лучшая система, но по моему мнению, за последние три десятилетия произошли значительные изменения, и плановая экономика всё быстрее набирает силу. Почему? Потому, что с доступом ко всем видам данных мы теперь можем увидеть невидимую руку рынка.
Планирование, очевидно, не вполне экономическая проблема. Она политическая. Она требует взять контроль над важными производственными решениями, что повлияет на все сферы общественной жизни, и на отношения общества и природы. Следовательно, это означает углубление демократии.
В 20 веке экономическое планирование требовало авторитарных политических структур.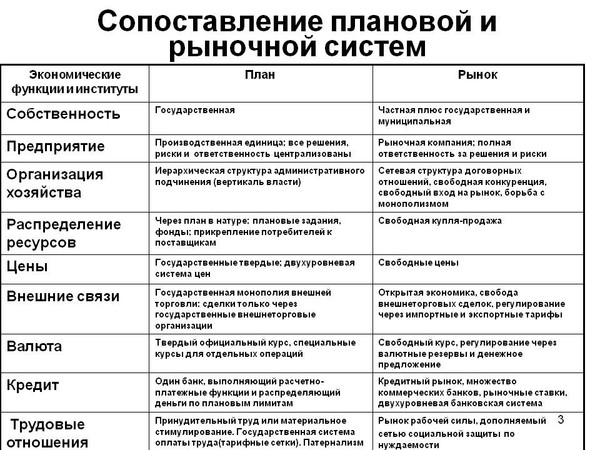 В СССР, бюрократия Госплана определяла качество и количество продуктов, которые нужно произвести, то есть, какие потребности удовлетворять, а какие — нет. Это делалось сверху вниз. Но этой взаимосвязь авторитаризма и плана не неизбежна. Ведь капитализм тоже порождает политический авторитаризм, что показывает рост правого популизма правительств.
В СССР, бюрократия Госплана определяла качество и количество продуктов, которые нужно произвести, то есть, какие потребности удовлетворять, а какие — нет. Это делалось сверху вниз. Но этой взаимосвязь авторитаризма и плана не неизбежна. Ведь капитализм тоже порождает политический авторитаризм, что показывает рост правого популизма правительств.
Сейчас время проявлять творчество в разработке властных институтов, чтобы совместить демократический контроль над экономикой и индивидуальное освобождение от потребления. Экономическое планирование должно идти снизу-вверх. Было много экспериментов c “совместной” или “совещательной” демократией за последние примерно двадцать лет. По сей день, однако, фокус-группы, гражданские жюри, инициативные бюджеты или совещания о консенсусе (consensus conferences) не используются для влияния на производственные решения.
Французский философ Доминик Бур выступает за Ассамблею будущего. Через регулирование она может отвечать за среднесрочные и долгосрочные общественные проекты, например, затрагивающие смягчение и адаптацию к изменениям климата. Ассамблея должна быть наделена полномочиями принимать решения об экономической активности. Современные институты представительной демократии останутся, но будут улучшены, чтобы отвечать вызовам 21 века.
Ассамблея должна быть наделена полномочиями принимать решения об экономической активности. Современные институты представительной демократии останутся, но будут улучшены, чтобы отвечать вызовам 21 века.
Цель — преодоление экономических кризисов и разрушения окружающей среды. Демократическое экономическое планирование — инструмент восстановления коллективного действия и обретения, со временем, новой формы независимости.
При поддержке Телеграм-канала Politeconomics
почему успешность плановой экономики и значение индустриализации — миф
Многие до сих пор считают, что «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». А некоторые даже уверены в экономической целесообразности репрессий. Так ли это? Экономист, профессор РЭШ Андрей Маркевич с цифрами и графиками показывает, что на самом деле представляла собой плановая экономика. T&P записали главное.
Профессор РЭШ, содиректор Совместного бакалавриата ВШЭ и РЭШ, специалист по экономической истории России, кандидат исторических наук, постдок Уорикского университета
Ностальгическая мифология
Выбор стереотипов, о которых я буду говорить, субъективен и связан с тем, что именно эти вопросы кажутся мне наиболее важными и интересными, кроме того, к их исследованию имеют отношение мои работы последних лет. Я выделил четыре мифа о советской экономике. Первые два касаются темпов роста:
Я выделил четыре мифа о советской экономике. Первые два касаются темпов роста:
Советская плановая экономика показывала исключительно высокие темпы экономического роста — выше, чем где-либо и когда-либо. За счет этого общество быстро и эффективно развивалось.
Сталинская форсированная индустриализация и принудительная коллективизация успешно превратила отсталую аграрную страну в индустриальную державу. Этот миф бытует в обществе в виде цитаты, которую ошибочно приписывают Черчиллю*: «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой».
Два других стереотипа отражают работу системы без связи с макроэкономическими показателями:
Советская экономика эффективно использовала нематериальные стимулы, включая принуждения и репрессии.
 Часто можно услышать, что при Сталине был порядок.
Часто можно услышать, что при Сталине был порядок.Советская экономика развивалась на основе тщательно составленных планов.
Миф о темпах экономического роста
Откуда берутся цифры развития экономики в СССР и как связаны друг с другом официальные оценки и множество пересчетов экономистов и экономических историков? В основе всех пересчетов лежат цифры официальной опубликованной и архивной статистики. При этом в архивах нет каких-то секретных данных, которые отличались бы кардинально от официально опубликованных. Откуда же берется разница в оценках экономического роста? Она появляется в зависимости от методологии и того, как суммируются все эти дезагрегированные цифры в обобщенные показатели.
На результат влияют два фактора. Первый — какую концепцию вы используете. Можно пользоваться концепцией ВВП, которая с середины XX века принята во всем мире. Или же концепцией чистого материального продукта, которой пользовались в СССР. Второй вопрос — в том, какие цены вы рассматриваете — рыночные или плановые, какого года и т. д.
д.
Чтобы получить цифры, сопоставимые с цифрами других стран, надо применять стандартную методику, которой пользуются в мире, в частности методику ООН. Тогда получится график, который показывает динамику ВВП на душу населения за 130 лет:
ВВП на душу в России/СССР конца XIX —начала XX века. 1913 = 100%. Источник: Markevich, Andrey and Mark Harrison (2011). «Great, Civil war, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928». Journal of Economic History, 71(3): 672–703
В среднем темпы роста в ХХ веке были около 2% ВВП на душу в год. На мировом уровне это неплохие показатели, но и не исключительно высокие. Если посчитать показатели роста для каждого отдельного периода, то получится таблица экономического развития:
Какой период был самым успешным? Источник: Markevich, Andrei and Steven Nafziger «State and Market in Russian Industrialization, 1870-2010» in O`Rourke, K. and J.G. Williamson, eds (2017), The Spread of Modern Manufacturing to the Periphery, 1870 to the Present, Oxford University Press: Oxford
Можно задаться вопросом: какой из этих периодов самый успешный?
Темпы роста в абсолютных показателях
Казалось бы, ответ очевиден: самый успешный — тот период, в который самые высокие темпы роста.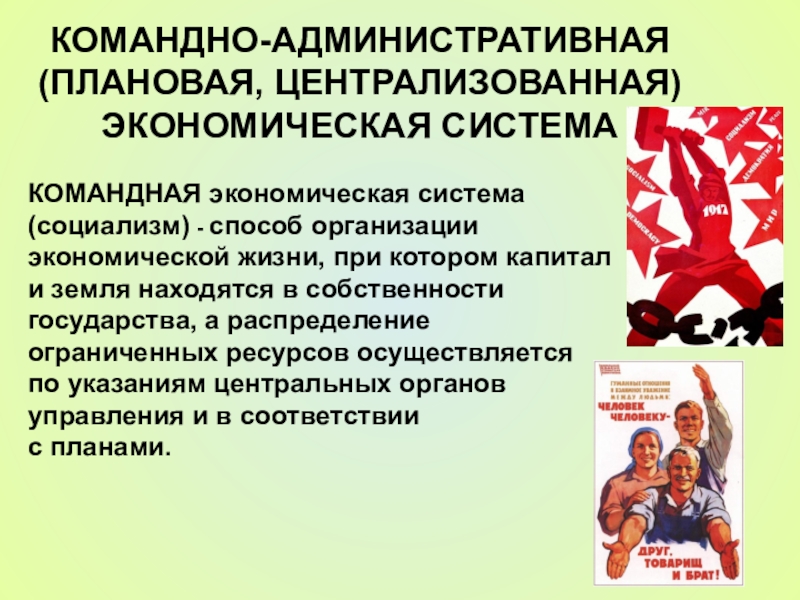 Это годы НЭПа с темпом роста около 14–15% в средний год.
Это годы НЭПа с темпом роста около 14–15% в средний год.
Но если вас интересует, в какой период правительственная политика была оптимальной и смогла достичь наилучших результатов в конкретных условиях, используя определенный набор ресурсов, ответ может быть другим. Важнейший вопрос здесь — по каким критериям сравнивать разные периоды?
Рост после падения
По таблице видно, что высокие темпы роста в годы НЭПа, в период первой послевоенной пятилетки и в 2000-е годы следуют за периодами сокращения ВВП. Поскольку восстановительный рост (запуск стоящих фабрик, восстановление разрушенного, перераспределение рабочей силы) всегда легче, становится ясно, что такой рост вряд ли может быть идеалом с точки зрения экономической политики.
Рост относительно долгосрочного тренда
Важно также понимать, как вы растете относительно долгосрочного тренда, насколько ваша экономическая политика лучше, чем экономическая политика ваших предшественников.
Например, с учетом наличия долгосрочного тренда меняется оценка сталинских пятилеток: главное, что было достигнуто в эти годы, — это возврат к тому тренду долгосрочного развития, который был у страны до Первой мировой войны.
Догоняющий рост
Если в начале рассматриваемого периода вы находитесь среди отстающих стран, то развиваться вам может быть легче за счет более продвинутых стран, откуда можно импортировать передовые технологии. Так и происходило в Российской империи перед революцией и в 1930-е годы в СССР.
Это верно и для плановых социалистических экономик — например, в послевоенный период. И для стран Западной Европы, и для социалистических стран в 1950–1989 годы есть обратная зависимость между темпами роста и уровнем начального развития. Бедные Румыния или Югославия демонстрировали более быстрые темпы роста, чем развитые Чехословакия или СССР. Но еще выше были темпы роста у капиталистических стран.
Рост относительно затраченных усилий и мирового тренда
Этот критерий говорит о том, насколько успешно вы использовали ваши факторы производства. Экономика СССР в плановый период в этом смысле сильно отличалась от других экономик. Существенно снизилась доля, шедшая на потребление: плановая экономика предпочитала больше тратить на инвестиции. Кому-то это может показаться нормальным — инвестировать сейчас ради потребления в будущем. Но Советский Союз имел другую структуру экономики, поэтому простое сравнение социалистических и несоциалистических стран по ВВП на душу населения, то есть по уровню жизни, невозможно.
Кому-то это может показаться нормальным — инвестировать сейчас ради потребления в будущем. Но Советский Союз имел другую структуру экономики, поэтому простое сравнение социалистических и несоциалистических стран по ВВП на душу населения, то есть по уровню жизни, невозможно.
Согласно международным данным по 103 странам за период с 1950 по 1989 год и учитывая затраты СССР, темпы роста были примерно на 2% ниже, чем они могли бы быть в других условиях. Об этом пишут Уильям Истерли и Стэнли Фишер в статье «Советский экономический упадок» (1995). 2% — это очень много, вполовину меньше того, что могло бы быть при тех же затратах. Авторы работы также показывают, что неэффективность использования ресурсов нарастала со временем.
Восточная и Западная Европа: темпы роста 1950–1989 гг. Источник: Vonyo, Tamas and Andrei Markevich (2019). Chapter 10. «Economic growth and structural development, 1945–1989». In Morris, Matthias (2019). «The Economic History of Central, East and South-East Europe, 1800 to the Present Day». Routledge, forthcoming.
Routledge, forthcoming.
Миф об индустриализации и коллективизации
Сторонники форсированной индустриализации и принудительной коллективизации в первую очередь говорят о 1930-х годах как о наиболее успешном периоде советской экономики. К концу означенного десятилетия в результате политики Сталина поменялась структура экономики: доля промышленности выросла в структуре ВВП до трети (перед первыми пятилетками она составляла около 20%):
Индустриализация и изменение структуры ВВП. Источники: Davies, R.W., Mark Harrison, & S.G. Wheatcroft (editors), The economic transformation of the Soviet Union, 1913-1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1994. P. 272; Markevich, Andrei and Steven Nafziger «State and Market in Russian Industrialization, 1870-2010» in O’Rourke, K. and J.G. Williamson, eds. (2017), The Spread of Modern Manufacturing to the Periphery, 1870 to the Present, Oxford University Press: Oxford.
Но чтобы оценить эти успехи, нужно посмотреть на эти же показатели в сравнительной перспективе. Индустриализация была глобальным феноменом с начала XIX века:
Индустриализация была глобальным феноменом с начала XIX века:
Индустриализация как глобальный феномен. Источник: база данных Ангуса Мэддисона, http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm
Первые 1800 лет н. э. ВВП в мире не менялся. Перелом случился после промышленной революции в Англии. По мере того как индустриализация распространялась на другие страны, развитие мира ускорялось, и Российская империя и СССР были частью этого процесса. Рост промышленности на треть в структуре экономики в период первых пятилеток похож на рост в Российской империи с 13% до 21%. Это наталкивает на вопрос: можно ли было достичь похожих или лучших результатов другим путем?
Этот вопрос давно обсуждается, и на него дают самые разные, порой противоположные ответы. Пример пессимистичного ответа — книга «От фермы к фабрике» (2003) Роберта Аллена, оптимистичного — работа «Был ли Сталин необходим?» (2017) Антона Черемухина, Михаила Голосова, Сергея Гуриева и Олега Цивинского. Аллен строит сложную модель советской экономики, учитывающую соотношения ее разных компонентов. Он пишет, что такие высокие темпы роста были достигнуты за счет того, что коллективизация и индустриализация перевели избыток рабочих рук в промышленность, и лучшего результата в других условиях достичь было бы сложно**.
Он пишет, что такие высокие темпы роста были достигнуты за счет того, что коллективизация и индустриализация перевели избыток рабочих рук в промышленность, и лучшего результата в других условиях достичь было бы сложно**.
Черемухин и соавторы строят модель общего равновесия для царского и советского периодов, а затем подставляют параметры одной модели в другую, устраивая своего рода соревнование на лучшие результаты.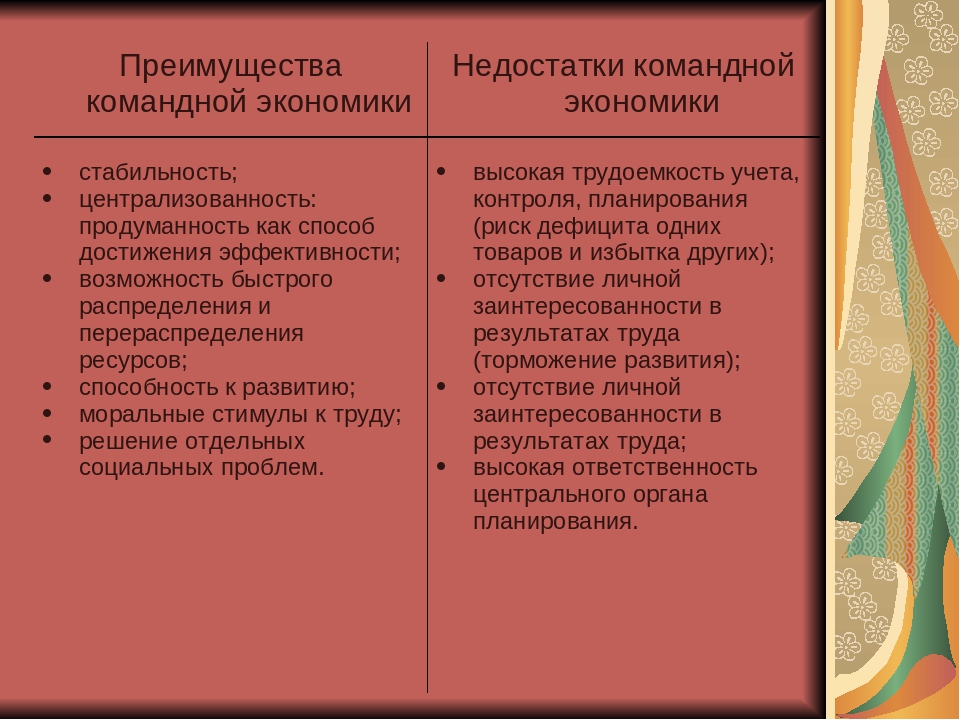 Авторы оценивают реальное среднее потребление в 1930-е годы и потребление в альтернативной реальности, которую они моделируют с помощью модели царской экономики. В итоге они приходят к выводу, что в период с 1928 по 1940 год благосостояние было бы выше на четверть, если бы была использована модель царского развития. В более долгосрочной перспективе модели показывают примерно то же самое.
Авторы оценивают реальное среднее потребление в 1930-е годы и потребление в альтернативной реальности, которую они моделируют с помощью модели царской экономики. В итоге они приходят к выводу, что в период с 1928 по 1940 год благосостояние было бы выше на четверть, если бы была использована модель царского развития. В более долгосрочной перспективе модели показывают примерно то же самое.
Согласно Аллену, политику индустриализации и коллективизации можно было бы разделить. Без коллективизации результаты были бы еще лучше. Однако большинство экономических историков утверждают, что это две части одного и того же плана: политика коллективизации была важна для успеха политики индустриализации и давала три важных преимущества в ее проведении.
Во-первых, коллективизация позволяла контролировать снабжение городов. Индустриализация началась чуть раньше, чем коллективизация, и в самом начале столкнулась с проблемой хлебозаготовок: крестьяне без коллективизации не хотели торговать с городом.
Во-вторых, коллективизация за счет экспортирования хлеба дала ресурсы для инвестиций в промышленность.
В-третьих, не может быть быстрой индустриализации, если нет рабочих рук. Коллективизация в 1930-е годы ухудшила жизненный уровень в деревне и дала стимул для бегства в город, что с точки зрения правительства было плюсом (так индустриализация становилась дешевле). Цена такой политики — голод 1932–1933 годов, масштабы которого демографы и экономисты оценивают в 6–8 миллионов человек.
На эту тему тоже идут дебаты, но точнее ответить на вопрос о причине голода можно опять же количественно — обратившись к анализу коллективизации и смертности по регионам страны.
В первую очередь коллективизации подвергались хлебные регионы: Южный Урал, Волга, Западная и Восточная Сибирь, в наименьшей степени — нечерноземные области. К концу 1930-х годов везде были стопроцентные показатели, но в начале скорость коллективизации была разной. В 1933 году регионы, в большой степени подверженные коллективизации, показали более высокую смертность. Стопроцентная коллективизация увеличивала количество смертей на 60%.
Стопроцентная коллективизация увеличивала количество смертей на 60%.
Сверху: Коллективизация, по областям, май 1930.
Снизу: «Повышенная» смертность, по областям, 1933. Источник: Markevich, Andrei, Natalya Naumenko, Nancy Qian and Ekaterina Zhuravskaya (2019). «The Causes of 1933 Famine in the Soviet Union». Working project.
Это результат простой парной регрессии, очень предварительный, и это лишь начало исследования, в котором нужно учесть и другие факторы. Тем не менее вряд ли эта связь между коллективизацией и голодом тогда пропадет.
Миф о Большом терроре
Когда говорят о цене коллективизации и индустриализации, помимо голода 1932–1933 годов часто говорят и о репрессиях и наказаниях. Трудно спорить с тем, что это была неотъемлемая часть советской системы. Несмотря на усилия историков, мы до сих пор не знаем точного числа репрессированных, но в любом случае речь идет о нескольких миллионах человек. Самые близкие данные, известные на данный момент, — это подсчеты «Мемориала»: более миллиона человек расстреляли, более четырех с половиной миллионов арестовали по контрреволюционным делам и отправили в ГУЛАГ. Всего через ГУЛАГ прошли более 15 миллионов, еще около шести миллионов — спецпоселенцы и т. д.
Всего через ГУЛАГ прошли более 15 миллионов, еще около шести миллионов — спецпоселенцы и т. д.
Если репрессии — необходимый метод достижения высоких экономических результатов, должна быть обратная зависимость между темпами роста и количеством наказаний. В работе «Repressions and Punishment Under Stalin» (2017) я задался вопросом, как выполнение планов советскими экономическими наркоматами и министерствами было связано с количеством наказаний со стороны министерств государственного контроля. Выяснилось, что действительно существует обратная связь между количеством наказаний (архивная информация) и процентом выполнения плана (официальные данные газеты «Правда»). Главный вопрос, однако, — как интерпретировать эту корреляцию? Кроме того, надо учитывать, что органы госконтроля накладывали мягкие наказания (выговоры и штрафы), поэтому даже если наказание было эффективным стимулом для советских менеджеров, это не было связано с массовыми репрессиями.
Большой террор — это политика, которую трудно обосновать экономически.
Роберт Дэвис в работе «Советская экономика и начало Большого террора» исследовал доклады разных министров, переписку Сталина с Кагановичем и «Бюллетени Госплана» — ежемесячное издание для служебного пользования, выходившее в 1930-е годы, следившее за состоянием советской экономики — за 1936 и 1937 год. Из 114 видов продукции по 89 было увеличение выпуска, 25 отраслей были проблемными (в основном в машиностроении). Так что ситуация накануне Большого террора не была удручающей, и вряд ли можно говорить о том, что у него были экономические причины. Напротив, 1937–1940 годы были более проблемными, чем 1934–1936. В промышленности особенно тяжелым был 1938 год: люди рапортовали с мест, что из-за репрессий не было менеджеров на предприятиях и появлялись проблемы в развитии. Таким образом, скорее всего, массовые репрессии — не следствие экономических трудностей, а причина. Большой террор оказал отрицательное действие на советскую экономику в предвоенный период.
Миф о плане
Идеальное научное планирование, о котором писали в советских учебниках, предполагало, что на каждую пятилетку правительство утверждает план, который потом детализируется и превращается в годовые квартальные месячные, декадные и даже ежедневные планы. С общесоюзного уровня он спускается ниже, на уровень наркоматов и предприятий. Каждое предприятие до начала планового периода имеет комплексный документ, где написано, сколько надо произвести, какие ресурсы будут использованы и откуда они придут. Все планы согласованы друг с другом, так как продукция одного предприятия используется другим.
С общесоюзного уровня он спускается ниже, на уровень наркоматов и предприятий. Каждое предприятие до начала планового периода имеет комплексный документ, где написано, сколько надо произвести, какие ресурсы будут использованы и откуда они придут. Все планы согласованы друг с другом, так как продукция одного предприятия используется другим.
Этот идеал плохо выполнялся на практике. Вышестоящие начальники не могли составить план без информации от подчиненных. Министры, несшие ответственность за выполнение планов, были активно вовлечены в процесс планирования, и у них возникали стимулы манипулировать информацией, чтобы добиться более легких планов и получить повышение.
В результате
процесс планирования и уточнения планов был бесконечным. Часто получалось, что экономические агенты работали без официально утвержденных планов, а лишь на основе их проектов.
Для предвоенных лет в советских архивах мне удалось найти всего один утвержденный план наркомата. В итоге возникала ситуация, которая описывается в позднесоветский период так: «Пятилетний план выполнен по сумме годовых». Это значит, что ситуация с пятилетним планом остается неизвестной, но путем пересмотра годовых планов (что могло произойти и в декабре) пятилетний план оказывался выполненным. С точки зрения стимулов и планирования как средства достижения наиболее эффективного распределения ресурсов это была проблемная система.
В итоге возникала ситуация, которая описывается в позднесоветский период так: «Пятилетний план выполнен по сумме годовых». Это значит, что ситуация с пятилетним планом остается неизвестной, но путем пересмотра годовых планов (что могло произойти и в декабре) пятилетний план оказывался выполненным. С точки зрения стимулов и планирования как средства достижения наиболее эффективного распределения ресурсов это была проблемная система.
Таким образом, хотя абсолютные показатели советской экономики в среднем выглядели неплохо, с учетом изначального уровня и количества затрат эта система была скорее неэффективной. Политике коллективизации и индустриализации можно приписать голод 1932–1933 годов. Расчеты развития альтернативной ситуации показывают, что результаты могли бы быть как минимум не хуже. Принуждения и репрессии были неотъемлемой частью системы, но вопрос об их эффективности в экономике остается открытым. Наконец, советскую экономику стоит называть не плановой, а скорее командной: система могла мобилизовать ресурсы на конкретные задачи, но добиться систематического эффективного распределения ресурсов на основе планов было невозможно.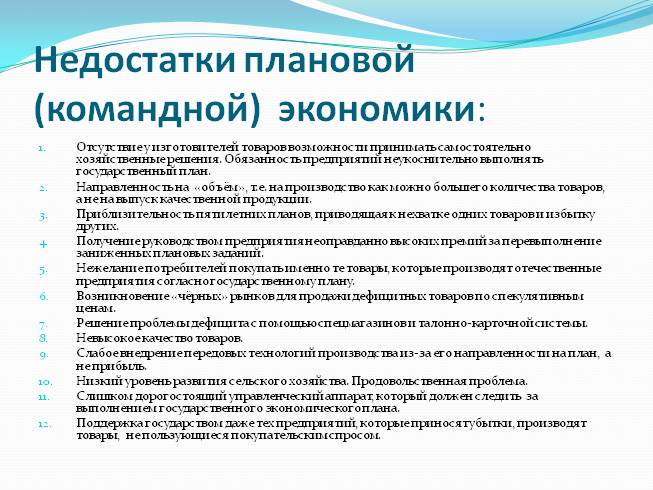 Так что мифы и стереотипы, о которых мы сегодня говорили, следует скорректировать.
Так что мифы и стереотипы, о которых мы сегодня говорили, следует скорректировать.
Литература
Аллен Р. От фермы к фабрике. Новая интерпретация советской промышленной революции. Москва, Российская политическая энциклопедия, 2013
Дэвис Р. Советская экономика и начало большого террора // Экономическая история. Ежегодник. 2006. Москва, Российская политическая энциклопедия, 2007
Маркевич А. Была ли советская экономика плановой? Планирование в наркоматах в 1930-е гг. // Экономическая история. Ежегодник. 2003. Москва, Российская политическая энциклопедия, 2004
Сталин И.В. Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения. «Правда» № 60 от 2 марта 1930 года.
Castaneda Dower P., Markevich A. (2018). Labor Misallocation and Mass Mobilization Russian Agriculture during the Great War // Review of Economics and Statistics 100(2): 245–259
Cheremukhin A, Golosov M., Guriev S., Tsyvinski A. Was Stalin Necessary for Russia’s Economic Development? // NBER Working paper 2013
Davies, R.
 W., Harrison M., Wheatcroft S.G. (editors), The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1994
W., Harrison M., Wheatcroft S.G. (editors), The economic transformation of the Soviet Union, 1913–1945, Cambridge: Cambridge University Press, 1994Easterly W. and Fischer S. (1995). The Soviet Economic Decline, The World Bank Economic Review, 9(3): 341–371
Markevich A., Harrison M. (2011). Great War, Civil War, and Recovery: Russia’s National Income, 1913 to 1928, Journal of Economic History, 71(3): 672–703
Markevich, A., Naumenko N., Qian N., Zhuravskaya E. (2019). The Causes of 1933 Famine in the Soviet Union. Working project
Markevich, A. Repressions and Punishment Under Stalin in Eloranta J., Golson E., Markevich A. and Wolf N. (2017). Economic History of Warfare and State Formation. Springer
Markevich, A., Steven N. State and Market in Russian Industrialization, 1870-2010 in O’Rourke, K. and Williamson J.G., eds. (2017), The Spread of Modern Manufacturing to the Periphery, 1870 to the Present, Oxford University Press: Oxford
Vonyo T.
 and Markevich A. (2019). Chapter 10. Economic growth and structural development, 1945-1989. In Morris, Matthias (2019). The Economic History of Central, East and South-East Europe, 1800 to the Present Day. Routledge, forthcoming
and Markevich A. (2019). Chapter 10. Economic growth and structural development, 1945-1989. In Morris, Matthias (2019). The Economic History of Central, East and South-East Europe, 1800 to the Present Day. Routledge, forthcoming
Мы публикуем сокращенные записи лекций, вебинаров, подкастов — то есть устных выступлений.
Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции.
Мы запрашиваем ссылки на первоисточники, но их предоставление остается на усмотрение спикера.
Где можно учиться по теме #история
Где можно учиться по теме #экономика
Централизованная плановая экономика – Справка по экономике
Определение – Централизованно планируемая экономика – это экономика, в которой решения о том, что производить, как производить и для кого, принимаются правительством в рамках централизованно управляемой бюрократии.
Централизованное планирование также называют «командной экономикой» или «коммунистической экономикой».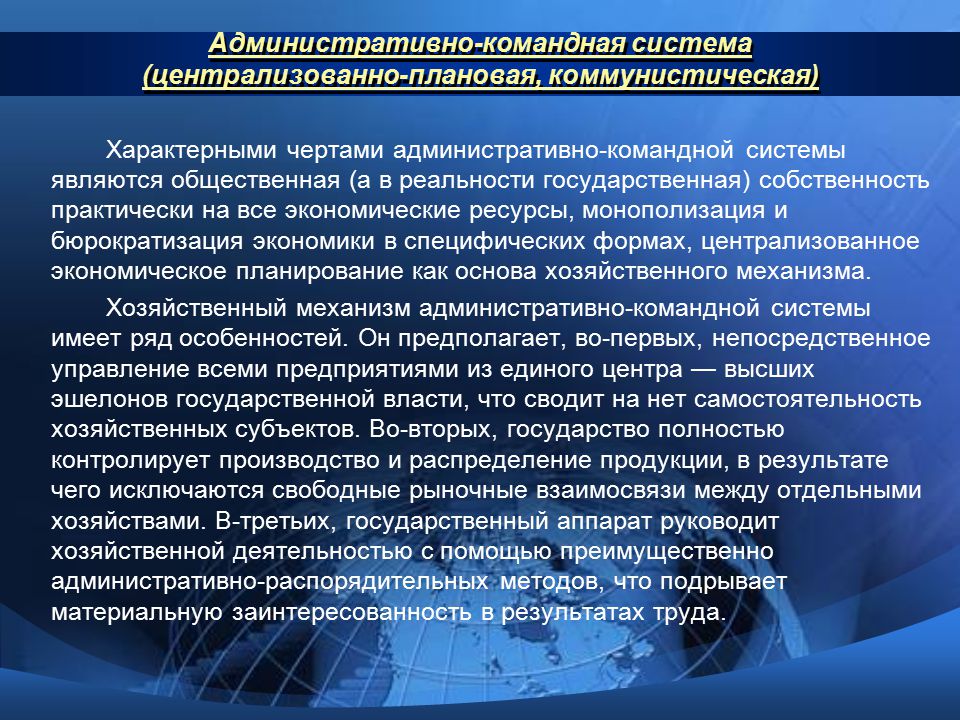
Теория централизованного планирования заключается в том, что правительство переходит в собственность средств производства и управляет экономикой в интересах рабочих.Теоретические основы плановой экономики вытекают из работы Карла Маркса
.«На мой взгляд, так называемое« социалистическое общество »не является чем-то неизменным … Его принципиальное отличие от нынешнего порядка состоит, естественно, в том, что производство организовано на основе общей собственности нации на все средства производства».
Теоретически экономика с централизованным планированием может преодолеть сбой рыночного механизма и добиться равного распределения. Сторонники централизованной плановой экономики утверждают, что, когда экономические решения предоставляются свободному рынку, возникают монополии, которые эксплуатируют потребителей.Более того, капиталисты (те, кто владеет частной собственностью) могут зарабатывать деньги, эксплуатируя чужой труд. Централизованно планируемая экономика допускает справедливое распределение для всех, а не только для класса капиталистов.
Централизованно планируемая экономика допускает справедливое распределение для всех, а не только для класса капиталистов.
Советский Союз часто объявлял о «пятилетних планах», в которых ставились цели по производству стали. В период 1928-40 годов и после Второй мировой войны эти пятилетние планы были очень успешными с точки зрения расширения промышленного производства Советского Союза. Советский Союз достиг очень высоких темпов экономического роста.Однако к 1960-м годам система боролась с коррупцией, неэффективностью и отсутствием стимулов.
Быстрый экономический рост сталинских лет также происходил на фоне политических репрессий.
Примеры централизованного планирования
- Советский Союз 1917-1991 гг. И Советский блок
- Китай до конца 70-х годов
- Куба
Особенности централизованно планируемой экономики
- Право собственности
- Решения о том, что производить, как производить и как распространять товары, принимаются на национальном бюрократическом уровне
- Цены обычно устанавливаются контролем над ценами, а не рыночными силами.

- Распределение по продовольственным книжкам.
- Производство можно планировать на пять или десять лет вперед
- Требуется больше бюрократии для управления и планирования экономических решений
- Возможности неэффективности из-за отсутствия стимулов
- Простор для коррупции за счет власти чиновников
- Часто требуется степень политического контроля и цензуры.
Проблемы централизованного планирования экономики
- Правительства не умеют предсказывать будущие тенденции.
- Отсутствие стимулов при гарантированном доходе.
- негибкий. Затрудняюсь ответить на дефицит и излишки
- Большой простор для коррупции
- Плановая экономика, часто ассоциируемая с усилением политических репрессий
- Люди достигают целей ради этого, а не того, что нужно. В Советском Союзе рабочие шутили: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем». Часто цель заключалась в достижении целей, а не в реальном удовлетворении потребностей, поэтому не меньше усилий уходило на сбор цифр и отчетов и производство общественно полезных товаров.

Централизованная плановая экономика и свободная рыночная экономика
Связанные
Централизованно планируемая экономика: определение, характеристики и преимущества – Видео и стенограмма урока
Теперь мы знаем, что централизованно планируемая экономика – это экономика, в которой государство контролирует, а не потребители и предприятия. Но какие характеристики часто встречаются в этом типе экономики?
Сначала правительство составляет план местности.По сути, правительство планирует на следующие несколько лет то, что, по его мнению, понадобится экономике для обеспечения роста. Затем, согласно плану, правительство решает, как лучше всего распределить ресурсы. Цель – найти наиболее эффективный способ использования ресурсов. Затем следует решение о производстве товаров. Правительство стремится обеспечить всем достаточное питание, жилье и другие предметы первой необходимости. Далее, государство, по сути, владеет теми компаниями, которые необходимы для достижения целей планов. Это могут быть коммунальные предприятия и финансовые компании. Наконец, правительство отвечает за принятие законов, регулирующих деятельность экономики.
Это могут быть коммунальные предприятия и финансовые компании. Наконец, правительство отвечает за принятие законов, регулирующих деятельность экономики.
Преимущества
Зачем стране использовать централизованно планируемую экономику? Давайте на минутку рассмотрим некоторые из наиболее заметных преимуществ:
- Внимание уделяется благосостоянию гражданина, а не прибыли, что часто является основной целью рыночной экономики. Например, правительство хочет убедиться, что граждане, участвующие в экономике, удовлетворяют свои потребности, такие как наличие еды и адекватного жилья.
- Ресурсы могут быть организованы и распределены быстро и эффективно. Например, правительство имеет право работать над масштабными проектами, чтобы экономика получала необходимые ей ресурсы.
- Безработица может быть минимизирована или предотвращена в централизованно планируемой экономике. Это связано с тем, что правительство, как утверждается, может видеть навыки этих людей в экономике и может использовать их таким образом, чтобы принести пользу экономике.

Итоги урока
Давайте рассмотрим.Централизованно планируемая экономика . – это экономика, управляемая государством. Правительство определяет потребности экономики, а затем следит за тем, чтобы эти потребности были удовлетворены. Они решают, что производить и в каком количестве. Они определяют цены и законы, чтобы экономика была эффективной. Поскольку ресурсы и навыки используются продуктивно, безработица сводится к минимуму, а еда и жилье доступны для всех граждан.
Мы уже живем в плановой экономике – нам просто нужно взять в руки штурвал
«Каждый раз, когда пытались централизовать планирование… это приводило к массовым страданиям.”
Согласно Хлои Уэстли из Альянса налогоплательщиков. Это знакомая история: распад Советского Союза и других коммунистических режимов стал неопровержимым доказательством того, что экономическое планирование не работает. Где бы правительства ни пытались спланировать распределение ресурсов, результат был катастрофическим. Напротив, где бы правительства не мешали, везде перестали вмешиваться и позволяли рынкам идти своим естественным курсом, люди процветали.
Напротив, где бы правительства не мешали, везде перестали вмешиваться и позволяли рынкам идти своим естественным курсом, люди процветали.
С этим повествованием много проблем.Но то, что часто упускается из виду, – это степень планирования капиталистической экономики. Несмотря на свою распространенность, рынки не являются стихийными законами природы; они в значительной степени порождения государства. На протяжении всей истории капиталистические рынки создавались и поддерживались посредством массового, часто насильственного вмешательства государства. Как сказал Карл Поланьи: «Дорога к свободному рынку была открыта и оставалась открытой благодаря огромному росту непрерывного, централизованно организованного и контролируемого интервенционизма.”
Получите нашу бесплатную ежедневную электронную почту
Получайте одну целую историю прямо на свой почтовый ящик каждый будний день.
Войти Сейчас Рынки поддерживаются правами собственности, которые определяются и соблюдаются государством. Они также определяются законодательством о компаниях, законодательством об интеллектуальной собственности, трудовым законодательством, налогообложением, регулированием, решениями центральных банков и т. Д. – и управляются через суды, регулирующие органы и различные другие государственные органы.Результаты, которые мы наблюдаем в рыночной экономике, от цен на товары и услуги до распределения доходов и богатства, являются прямым продуктом того, как устроен этот институциональный аппарат. Другими словами, невидимой рукой рынка руководит железный кулак.
Они также определяются законодательством о компаниях, законодательством об интеллектуальной собственности, трудовым законодательством, налогообложением, регулированием, решениями центральных банков и т. Д. – и управляются через суды, регулирующие органы и различные другие государственные органы.Результаты, которые мы наблюдаем в рыночной экономике, от цен на товары и услуги до распределения доходов и богатства, являются прямым продуктом того, как устроен этот институциональный аппарат. Другими словами, невидимой рукой рынка руководит железный кулак.
Экономисты обычно рассматривают государство и рынок как альтернативные и конкурирующие способы организации экономической деятельности. Согласно неоклассической экономической теории, товары и услуги наиболее эффективно производятся частными фирмами, работающими на конкурентном рынке, и государство должно вмешиваться в работу рынков только для того, чтобы «уравнять правила игры» или исправить определенные идентифицируемые рыночные сбои. Поскольку у государства нет ни знаний, ни опыта, чтобы распределять ресурсы лучше, чем рынок, ему следует избегать проведения политики, которая пытается «выбрать победителей», поскольку это будет только искажать рыночную конкуренцию.
Поскольку у государства нет ни знаний, ни опыта, чтобы распределять ресурсы лучше, чем рынок, ему следует избегать проведения политики, которая пытается «выбрать победителей», поскольку это будет только искажать рыночную конкуренцию.
Но, учитывая, что рынки сами по себе являются вмешательством государства, никогда не может быть «равных условий игры» в каком-либо значимом смысле. Институциональный аппарат, лежащий в основе рынков, всегда отдает предпочтение одним результатам по сравнению с другими и гарантирует, что социальные механизмы не выходят за рамки установленных параметров.Как отмечает J.W. Мейсон выразился так:
«сознательное планирование, которое ограничивает рыночные результаты в допустимых пределах, должно быть скрыто от глаз, потому что, если бы роль планирования была признана, это подорвало бы представление о рынках как естественных и спонтанных и продемонстрировало бы возможность сознательное планирование для достижения других целей ».
Представление рыночных институциональных механизмов как естественного порядка, в который не следует «вмешиваться», если не соблюдаются строгие критерии, стало чрезвычайно мощным риторическим инструментом.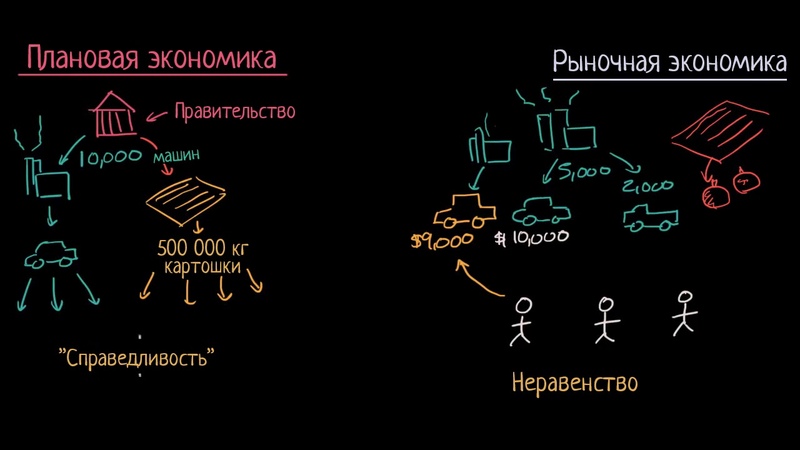 Но на самом деле это не более чем идеология, маскирующаяся под науку.
Но на самом деле это не более чем идеология, маскирующаяся под науку.
Более того, как отмечают Ли Филлипс и Михал Розворски в своей новой книге «Народная республика Walmart: как крупнейшие в мире корпорации закладывают фундамент социализма», значительная часть частного сектора вообще не управляется рынками, но централизованным планированием. Хотя такие корпорации, как Walmart и Amazon, считаются оплотом свободного рыночного капитализма, по иронии судьбы они являются наиболее успешными специалистами по экономическому планированию в мире.Многие действуют в масштабах, превышающих масштабы национальных государств, но их операции иерархичны, недемократичны и строго скоординированы. Внутренние ресурсы распределяются командно-административным управлением, а не рыночными механизмами. Хотя главной целью этих корпоративных гигантов является получение прибыли, а не общественная цель, мы не должны недооценивать значение их логистических и технологических достижений. Вопрос в том, как использовать их для достижения демократически определенных целей.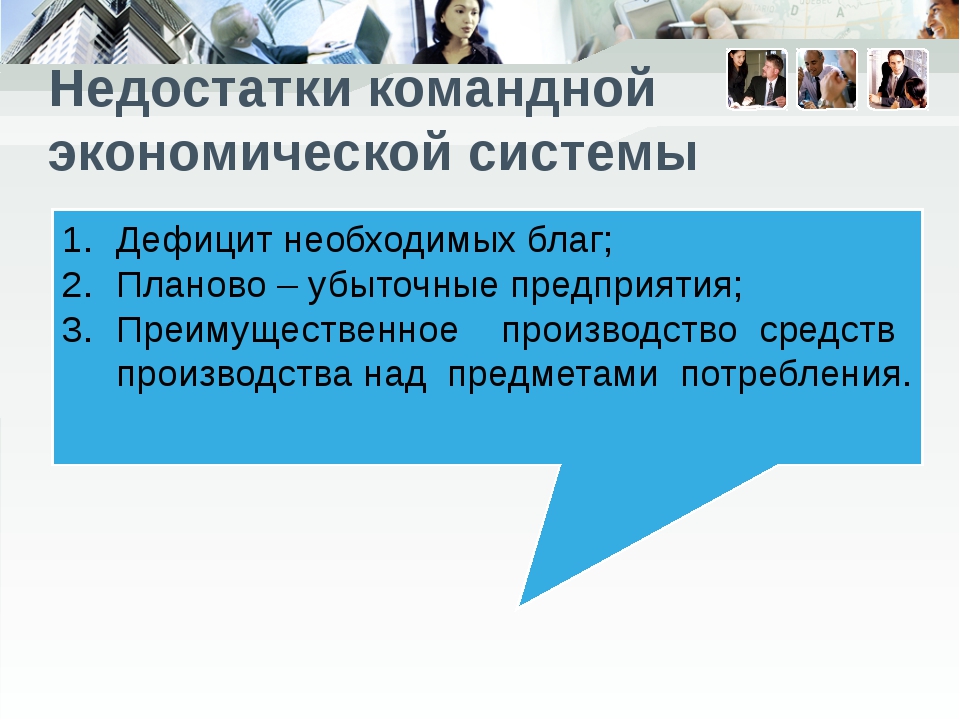 Филлипс и Розворски заключают: «Планирование работает, но пока не для нас.”
Филлипс и Розворски заключают: «Планирование работает, но пока не для нас.”
В то время, когда правительства всего мира сталкиваются с серьезными социальными и экологическими проблемами, простая попытка« уравнять правила игры »только заблокирует нас в наших текущих траекториях. Как отметил Институт инноваций и общественных целей UCL, если мы должны преодолеть ключевые проблемы двадцать первого века, нам нужно отказаться от мифа о равных условиях игры и вместо этого «склонить» игровое поле к амбициозному набору коллективных целей: переход к экологически устойчивой экономике, искоренение бедности , сокращение неравенства, улучшение показателей здоровья и образования и т. д.
Рынки вполне могут быть лучшим способом организации человеческих дел в некоторых обстоятельствах. В этом случае к ним следует относиться не как к саморегулирующимся силам, а как к результатам, которые можно создавать, формировать и активно направлять для достижения желаемых целей. Если рынки не служат какой-либо явной общественной цели, их следует демонтировать. Решения об упразднении рынка рабов и детского труда принимались не на основе какого-то экономического закона – это были моральные решения. Сегодня нам нужна такая же смелость лидеров во всем, от компаний, работающих на ископаемом топливе, до множества социально бесполезных финансовых инструментов.
Решения об упразднении рынка рабов и детского труда принимались не на основе какого-то экономического закона – это были моральные решения. Сегодня нам нужна такая же смелость лидеров во всем, от компаний, работающих на ископаемом топливе, до множества социально бесполезных финансовых инструментов.
Но рынки не могут решить все дилеммы распределения ресурсов, с которыми сталкивается современная экономика. Как подчеркивают Филлипс и Розворски: «То, что выгодно, не всегда полезно, а то, что полезно, не всегда выгодно». На протяжении всей истории многие из величайших достижений человечества возникали не в результате конкуренции, ориентированной на прибыль, а в результате коллективных действий – будь то высадка на Луну, обеспечение всеобщего здравоохранения или разработка ключевых технологий. Но после четырех десятилетий неолиберализма возможности государственного сектора резко упали.Ключевые государственные функции были делегированы консультантам по вопросам управления и паразитическим аутсорсинговым компаниям, в то время как применение методов управления в частном секторе в государственной сфере поместило государственных служащих в административную смирительную рубашку.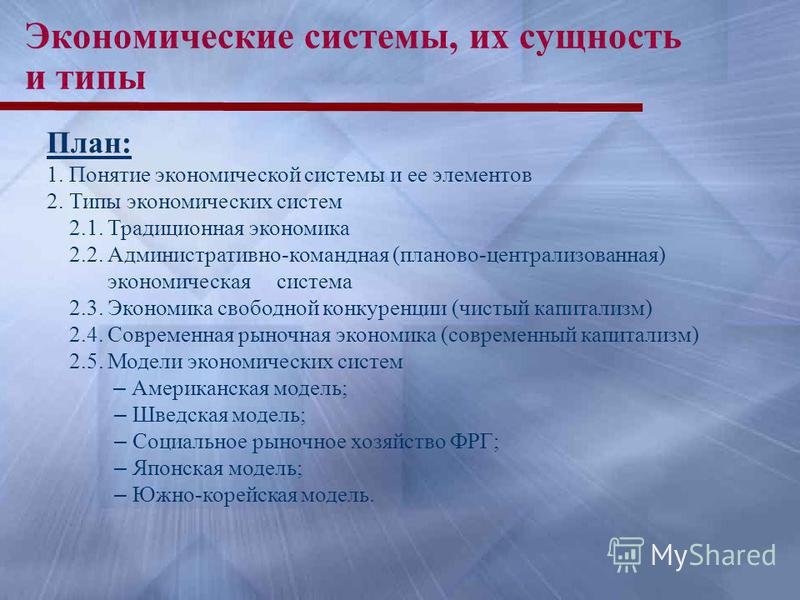 Если мы хотим преобразовать нашу экономику в требуемых масштабах, мы должны срочно восстановить институты государственного сектора и повысить их способность мыслить и действовать масштабно. При этом мы должны извлечь уроки из историй успеха государственного сектора, таких как НАСА, а также из логистических достижений корпоративных планировщиков, таких как Amazon.
Если мы хотим преобразовать нашу экономику в требуемых масштабах, мы должны срочно восстановить институты государственного сектора и повысить их способность мыслить и действовать масштабно. При этом мы должны извлечь уроки из историй успеха государственного сектора, таких как НАСА, а также из логистических достижений корпоративных планировщиков, таких как Amazon.
Многие, без сомнения, продолжат изображать планирование как зло, которое должно быть отправлено на свалку истории. Но не заблуждайтесь: мы уже живем в плановой экономике – нам просто нужно сесть за руль.
Экономика во время войны – Журнал несогласных
Экономика во время войны
Во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах была централизованная плановая экономика и был самый быстрый экономический рост в США.История С. Какие уроки мы можем извлечь из военной экономики сегодня?
J.W. Mason & squarf; Осень 2017 Молодая женщина продает военные облигации и марки и распространяет литературу по мотивам военного производства, около 1943 года (Национальный архив) Разрушительное созидание: американский бизнес и победа во Второй мировой войне
Марк Р. Уилсон
Уилсон
University of Pennsylvania Press, 2016, 392 с.
Во время Второй мировой войны в США была централизованная плановая экономика.Стратегические ресурсы производились в количествах, установленных в Вашингтоне, и распределялись среди конечных пользователей государственными чиновниками, входящими в Совет по военному производству. Ключевые цены и заработная плата устанавливались, а не оставались на усмотрение рынка. Подавляющая часть инвестиций была направлена, профинансирована и, в большинстве случаев, принадлежала федеральному правительству. Тысячи частных предприятий, которые не выполнили инструкции планировщиков, были просто взяты под контроль правительством, включая некоторые из крупнейших корпораций страны, такие как Montgomery Ward.Для миллионов американцев фотография, на которой председатель Уорда Сьюэлл Эйвери, который был категорически против Рузвельта, выносится из его штаб-квартиры отрядом солдат, кристаллизовал новые отношения между правительством и капиталом.
Что мы должны делать с тем фактом, что экономическая жизнь была «полностью регламентирована» (по одобрительным словам адмирала Гарольда Боуэна) во время войны? Для романистов на передовой он мог показаться частью огромной безличной машины, поглощающей человеческие жизни как средство достижения непостижимой цели.Вспомните капрала Файфа в The Thin Red Line, , наблюдающего за своим транспортным кораблем, подвергающимся атаке японских самолетов: «Обычное коммерческое предприятие, никакой войны. Это было странно, странно и как-то безумно. . . . Это было похоже на то, как если бы было решено канцелярское математическое уравнение, как рассчитанный риск ». Для историка Марка Уилсона, внимание которого сосредоточено на внутреннем фронте, такой двойственности нет. Его новая книга Destructive Creation представляет собой защиту управления военной экономикой с помощью «клерикального математического уравнения» от тех, кто справа, которые приписывают производство военного времени гению частного бизнеса, и тех, кто слева, которые видят государство военного времени как двигатель спекуляции и монополии.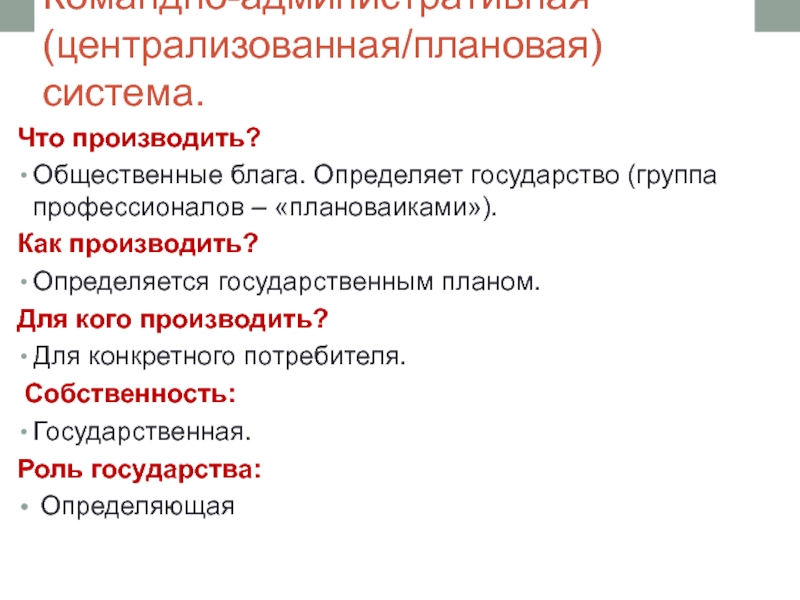 Книга вдохновлена идеей о том, что планирование военного времени представляет собой потерянную модель для эффективного государственного управления экономикой: «Если бы американские политики применили уроки мобилизации Второй мировой войны к самым сложным задачам конца двадцатого века, люди во всем мире будет лучше сегодня.
Книга вдохновлена идеей о том, что планирование военного времени представляет собой потерянную модель для эффективного государственного управления экономикой: «Если бы американские политики применили уроки мобилизации Второй мировой войны к самым сложным задачам конца двадцатого века, люди во всем мире будет лучше сегодня.
Вторая мировая война, безусловно, была историей экономического успеха, поскольку совпала с самым быстрым экономическим ростом в истории США. По большей части этот рост пришелся не на восстановление после депрессии, а в период после 1940 года, когда страна уже была более или менее при полной занятости.С 1938 по 1944 год безработица упала примерно на 10 миллионов человек. (Сюда входят люди, покидающие Администрацию по продвижению работ и аналогичные программы занятости.) За тот же период частная занятость и занятость в вооруженных силах на каждую выросла на 10 миллионов, что означает 10 миллионов новых участников рынка труда – в основном женщин. В то же время рабочие перешли от менее производительной деятельности (особенно в сельском хозяйстве) к более производительной работе в промышленности.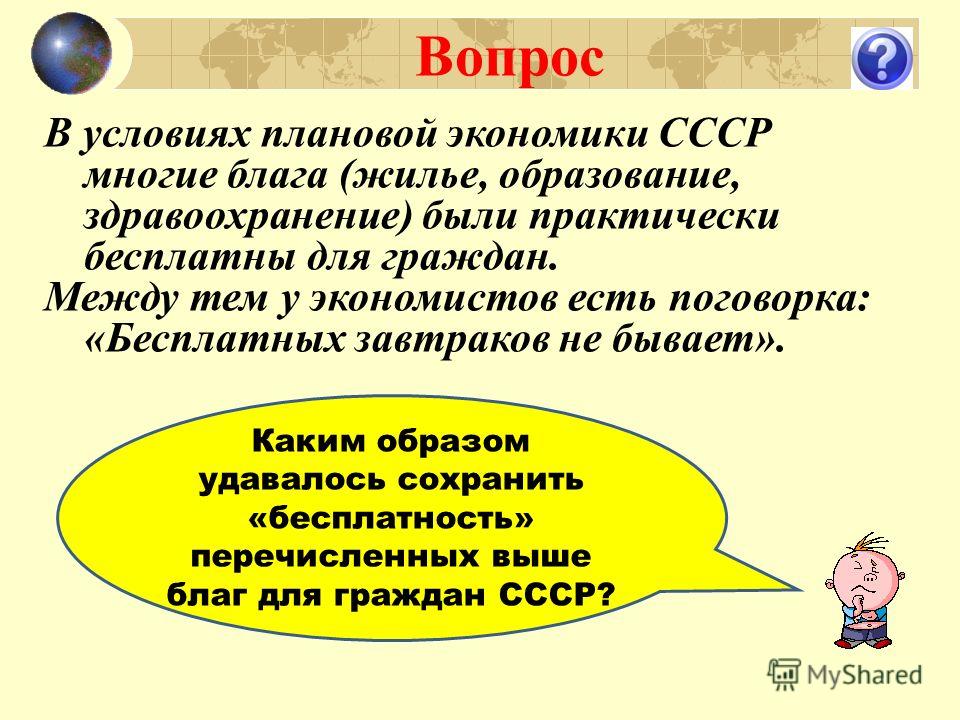 Производительность производства – производительность в час – также быстро росла.
Производительность производства – производительность в час – также быстро росла.
Уилсон, безусловно, прав в том, что федеральное правительство сыграло центральную роль в этом огромном расширении производственных мощностей. Еще до Перл-Харбора лидерам мобилизации было ясно, что система распределения промышленных ресурсов по рынкам в мирное время рушится перед лицом быстрого роста военного производства. Такие материалы, как сталь, медь, алюминий и резина, были в дефиците, что усугублялось накоплением запасов подрядчиками, которые хотели обеспечить выполнение своих собственных заказов.Что еще более важно, инвестиции в новые промышленные мощности – после 1940 года почти все направляемые и финансируемые Вашингтоном – могли быть решены только в том случае, если были известны будущие поставки критически важного сырья. (Не имело смысла строить новый завод по производству бомбардировщиков, если не будет достаточно алюминия для производства самолетов.) Специального контроля над ценами и грубой системы «приоритета», предусматривающей резервирование основных материалов для использования в военных целях, было недостаточно – явный был необходим процесс планирования.
Экономическое планирование во время войны также привело к более широкой рационализации экономической жизни.Многие макроэкономические данные начинаются примерно с 1945 года – они были впервые собраны для помощи в планировании военного времени. Оценки фактического и потенциального объема производства, которыми сегодня руководствуется столь большая часть макроэкономической политики, возникли в результате «дебатов о целесообразности» между гражданскими экономистами и военными планировщиками – увлекательная история, которую Уилсон почти не коснулся, но подробно рассказанная в книге Пола Койстинена «Арсенал Второй мировой войны ». (2004), который остается окончательной историей экономического планирования военного времени. То же самое и с другими воюющими сторонами.Ричард Вернер (in Prince of the Yen , 2003 ) убедительно доказывает, что аппарат планирования, который руководил послевоенным экономическим чудом Японии, был продуктом войны – японский капитализм начала двадцатого века больше походил на вольный либерал, ориентированный на рынок Американская система, чем то, что мы привыкли считать «восточноазиатской моделью».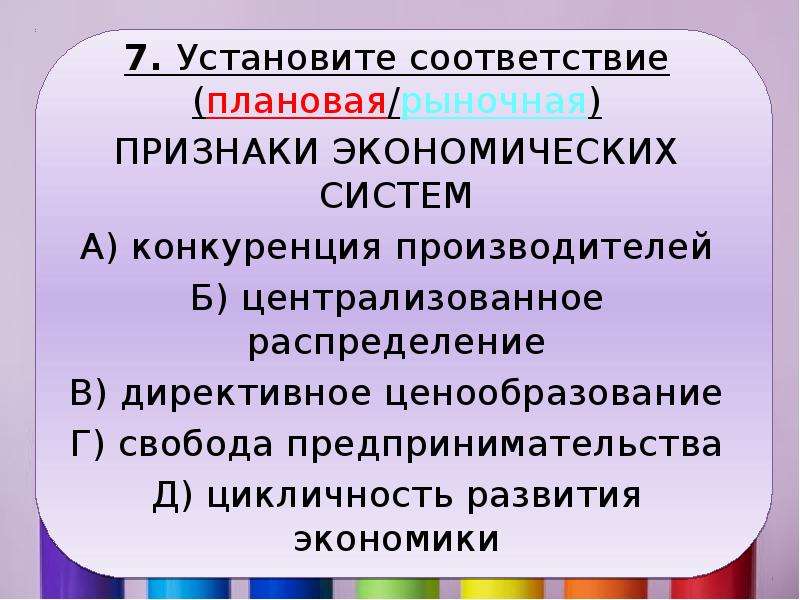 Возвращаясь к Соединенным Штатам, становится ясно, что большая часть того, что компании возражали как «бюрократическая волокита», заключалась просто в том, что для того, чтобы выиграть государственные контракты, они должны были принять явный учет затрат, графики заработной платы и другие отличительные черты современной управленческой деятельности. фирма.
Возвращаясь к Соединенным Штатам, становится ясно, что большая часть того, что компании возражали как «бюрократическая волокита», заключалась просто в том, что для того, чтобы выиграть государственные контракты, они должны были принять явный учет затрат, графики заработной платы и другие отличительные черты современной управленческой деятельности. фирма.
Легко увидеть привлекательность превращения борьбы с Гитлером в выставку А в более широком аргументе в пользу государственного сектора. Если государственное планирование было необходимо для разработки и мобилизации реальных ресурсов на войну, то почему не для ее моральных эквивалентов сегодня, таких как изменение климата? Уилсон прямо не приводит этого аргумента – его история заканчивается в 1950-х годах, – но можно с уверенностью сказать, что он согласен.
В этой книге много полезного материала, но ее аргументы были бы более убедительными, если бы она не была так узко сфокусирована на взаимодействии бизнеса и правительства. Уилсон предлагает исчерпывающий отчет о том, как государственные чиновники взаимодействовали с бизнесом: как клиенты, финансисты, регулирующие органы, как соперники в пользу общественного мнения. Но ему нечего сказать о двух критических вопросах, которые лежат, так сказать, по обе стороны этого интерфейса: как на самом деле функционировал аппарат планирования и как американская промышленность смогла добиться такого большого увеличения выпуска и производительности. Буквально один в сторону повышения производительности во время войны («экономия на масштабе, совершенствование производственных технологий или другие факторы») затягивается обсуждением того, как устанавливались цены на военные закупки.Точно так же операции аппарата планирования – Совета по военному планированию и его предшественников – занимают менее двух страниц. В отличие от этого, дюжина страниц посвящена тому, как обрабатывались платежи по преждевременно аннулированным контрактам. Уилсона очень интересует, сколько правительство заплатило за танки и корабли, а не столько сколько их было произведено.
Уилсон предлагает исчерпывающий отчет о том, как государственные чиновники взаимодействовали с бизнесом: как клиенты, финансисты, регулирующие органы, как соперники в пользу общественного мнения. Но ему нечего сказать о двух критических вопросах, которые лежат, так сказать, по обе стороны этого интерфейса: как на самом деле функционировал аппарат планирования и как американская промышленность смогла добиться такого большого увеличения выпуска и производительности. Буквально один в сторону повышения производительности во время войны («экономия на масштабе, совершенствование производственных технологий или другие факторы») затягивается обсуждением того, как устанавливались цены на военные закупки.Точно так же операции аппарата планирования – Совета по военному планированию и его предшественников – занимают менее двух страниц. В отличие от этого, дюжина страниц посвящена тому, как обрабатывались платежи по преждевременно аннулированным контрактам. Уилсона очень интересует, сколько правительство заплатило за танки и корабли, а не столько сколько их было произведено.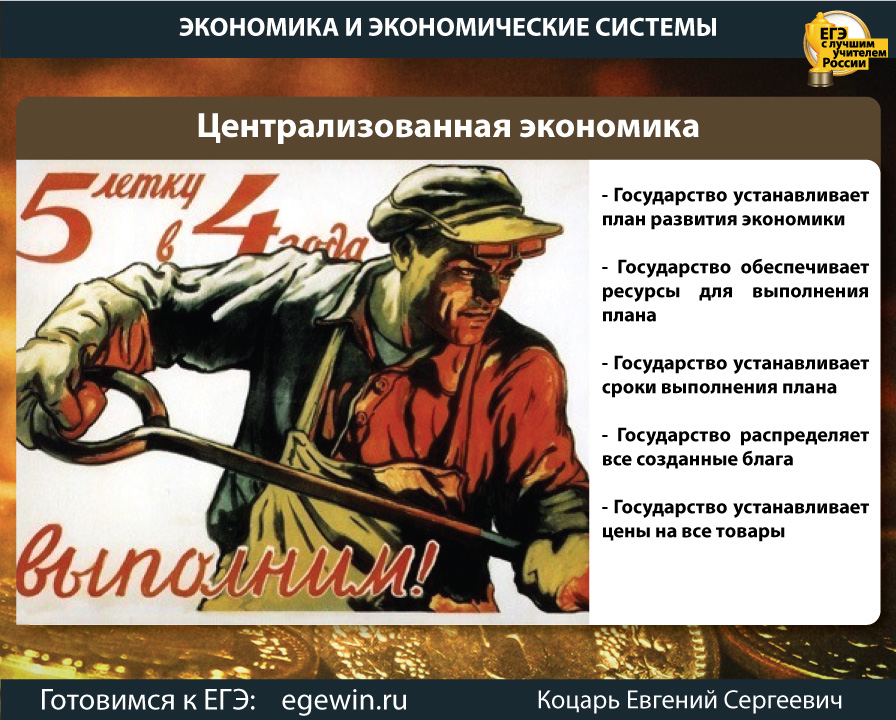
Уилсон не спрашивает, например, , почему военное производство требует централизованного планирования. Это непростой вопрос, но естественным местом для поиска ответа может быть история индустриализации, которая в некотором роде связана с аналогичными проблемами – более или менее быстрым перенаправлением ресурсов с одного набора видов деятельности на совершенно другой, перед лицом различных узких мест и проблем с координацией.Как известный историк экономики Александр Гершенкрон утверждал, современная индустриализация была бы невозможна без высокой степени сознательного руководства. Одновременное расширение многих взаимозависимых секторов и отраслей – наряду с необходимой государственной инфраструктурой – представляет собой совершенно неправильный вид проблемы для широко рассредоточенных частных лиц, принимающих решения. Крупномасштабные инвестиции в заводы и оборудование, необходимые как для военной мобилизации, так и для индустриализации, часто непривлекательны для частных владельцев капитала, которые делают большие скидки на прибыль в далеком неопределенном будущем. Даже рутинная координация производства через ценовой механизм может нарушиться в условиях высокого давления, связанного с серьезным перенаправлением производства. В экономике, работающей на полную мощность, дефицитные ресурсы испытают резкий и разрушительный рост цен, в то время как частные субъекты будут испытывать соблазн накапливать ключевые ресурсы и использовать свою рыночную власть. Гигантские корпорации, начиная с железных дорог в девятнадцатом веке, организовали себя изнутри за счет централизованного планирования, а не рынков, а менеджеры, получающие зарплату, выполняли важные задачи по координации.Неудивительно, что правительство, стремящееся максимизировать военное производство, будет стремиться организовать всю экономику таким же образом.
Даже рутинная координация производства через ценовой механизм может нарушиться в условиях высокого давления, связанного с серьезным перенаправлением производства. В экономике, работающей на полную мощность, дефицитные ресурсы испытают резкий и разрушительный рост цен, в то время как частные субъекты будут испытывать соблазн накапливать ключевые ресурсы и использовать свою рыночную власть. Гигантские корпорации, начиная с железных дорог в девятнадцатом веке, организовали себя изнутри за счет централизованного планирования, а не рынков, а менеджеры, получающие зарплату, выполняли важные задачи по координации.Неудивительно, что правительство, стремящееся максимизировать военное производство, будет стремиться организовать всю экономику таким же образом.
Фундаментальная политическая проблема, возникающая при планировании военного времени, заключается не в том, в какой степени оно повлияло или не повлияло на частную прибыль или конкуренцию, а в том, как оно заменило разрозненную частную власть, осуществляемую через рынки, централизованной (и в принципе, по крайней мере, демократически подотчетной) властью. осуществляется государством. Если неотложные производственные потребности и быстрое перераспределение ресурсов требуют централизованного плана – если даже частные предприятия признают это внутри себя – тогда какие претензии частные капиталисты имеют к своей власти и прибыли? В своей вводной главе, посвященной предшественникам планирования Второй мировой войны, Уилсон цитирует забавный обмен мнениями между У.Председатель S. Steel Элберт Гэри и Бернард Барух, глава Совета по вопросам военной промышленности времен Первой мировой войны. Недовольный тем, что военные платят за сталь, Барух сообщил Гэри, что, если цены не снизятся, правительство просто возьмет на себя эту отрасль. Когда недоверчивый Гэри спросил, как можно было бы управлять US Steel без высшего руководства, Барух ответил: «О, у нас будет второй лейтенант или кто-то другой, чтобы управлять ею». Более опасным, чем налоги, бюрократизм или даже воинствующие союзы, было то, что планирование военного времени было ненужным для производства.
осуществляется государством. Если неотложные производственные потребности и быстрое перераспределение ресурсов требуют централизованного плана – если даже частные предприятия признают это внутри себя – тогда какие претензии частные капиталисты имеют к своей власти и прибыли? В своей вводной главе, посвященной предшественникам планирования Второй мировой войны, Уилсон цитирует забавный обмен мнениями между У.Председатель S. Steel Элберт Гэри и Бернард Барух, глава Совета по вопросам военной промышленности времен Первой мировой войны. Недовольный тем, что военные платят за сталь, Барух сообщил Гэри, что, если цены не снизятся, правительство просто возьмет на себя эту отрасль. Когда недоверчивый Гэри спросил, как можно было бы управлять US Steel без высшего руководства, Барух ответил: «О, у нас будет второй лейтенант или кто-то другой, чтобы управлять ею». Более опасным, чем налоги, бюрократизм или даже воинствующие союзы, было то, что планирование военного времени было ненужным для производства. Во время Второй мировой войны владельцы бизнеса гневно – и правильно – жаловались, что государственный контроль над инвестициями, распределением дефицитных материалов, ценами и заработной платой означал, что «бизнесмен – всего лишь посредник» для плановиков в Вашингтоне.
Во время Второй мировой войны владельцы бизнеса гневно – и правильно – жаловались, что государственный контроль над инвестициями, распределением дефицитных материалов, ценами и заработной платой означал, что «бизнесмен – всего лишь посредник» для плановиков в Вашингтоне.
Это радикальное содержание планирования военного времени было более ясно признано его бизнесом и консервативными оппонентами, чем самими плановиками, которые – не считая нескольких ярых новых дилеров – похоже, перешли к более централизованному планированию в качестве прагматичного ответа на трудности наращивания мощностей. военное производство.Первоначально планировщики надеялись добиться значительного расширения промышленных мощностей, необходимых для удовлетворения военных потребностей, за счет частных инвестиций. Они перешли в государственную собственность только тогда, когда частные банки оказались незаинтересованными в финансировании военных заводов. Для бизнеса, с другой стороны, планирование и общественная собственность явно рассматривались как смертельная угроза их престижу и власти – соперник, которого боялись и ненавидели, или даже, как предполагает Уилсон, враг наравне с официальными врагами за рубежом. Уже к 1941 году государственное предприятие было, согласно публикации Торговой палаты, «призраком, который подкрадывается на каждой деловой конференции.Дж. Ховард Пью из Sun Oil заявил, что, если Соединенные Штаты откажутся от частной собственности и «вяло полагаются на государственный контроль и операции, то победит гитлеризм, даже если сам Гитлер потерпит поражение». Даже самые крупные получатели военных контрактов относились к государству военного времени враждебно. Председатель GM Альфред Слоан, говоря об опасности государственных предприятий, работающих после войны, задался вопросом, «не так ли важно выиграть мир в экономическом смысле, как выиграть войну в военном смысле», в то время как GE Филип Рид пообещал «выступить против любого проекта или программы, которые ослабят» свободное предпринимательство.
Уже к 1941 году государственное предприятие было, согласно публикации Торговой палаты, «призраком, который подкрадывается на каждой деловой конференции.Дж. Ховард Пью из Sun Oil заявил, что, если Соединенные Штаты откажутся от частной собственности и «вяло полагаются на государственный контроль и операции, то победит гитлеризм, даже если сам Гитлер потерпит поражение». Даже самые крупные получатели военных контрактов относились к государству военного времени враждебно. Председатель GM Альфред Слоан, говоря об опасности государственных предприятий, работающих после войны, задался вопросом, «не так ли важно выиграть мир в экономическом смысле, как выиграть войну в военном смысле», в то время как GE Филип Рид пообещал «выступить против любого проекта или программы, которые ослабят» свободное предпринимательство.
Тем не менее, в конце войны около четверти промышленных предприятий страны, на которые приходилось подавляющее большинство инвестиций военного времени, принадлежали федеральному правительству. Размещение этой обширной системы государственных и полугосударственных предприятий было одним из центральных вопросов послевоенного преобразования; в то время как почти все это в конечном итоге перешло в частные руки, это ни в коем случае не было предрешено в 1945 году. Для оставшихся Новых дилеров и их недавно наделенных полномочиями союзников в сфере труда эти государственные предприятия стали основой для постоянного расширения государственных предприятий. по образцу Управления долины Теннесси.(Место TVA в либеральном воображении как части проекта более широкого социального обновления незабываемо выражено в фильме Элиа Казана 1960 года « Дикая река ».) Когда война закончилась, Гарольд Икес высказал идею о том, что должны быть созданы новые полугосударственные корпорации. созданы для переоборудования военных заводов для производства товаров гражданского назначения и их акций для распределения среди вернувшихся ветеранов.
Размещение этой обширной системы государственных и полугосударственных предприятий было одним из центральных вопросов послевоенного преобразования; в то время как почти все это в конечном итоге перешло в частные руки, это ни в коем случае не было предрешено в 1945 году. Для оставшихся Новых дилеров и их недавно наделенных полномочиями союзников в сфере труда эти государственные предприятия стали основой для постоянного расширения государственных предприятий. по образцу Управления долины Теннесси.(Место TVA в либеральном воображении как части проекта более широкого социального обновления незабываемо выражено в фильме Элиа Казана 1960 года « Дикая река ».) Когда война закончилась, Гарольд Икес высказал идею о том, что должны быть созданы новые полугосударственные корпорации. созданы для переоборудования военных заводов для производства товаров гражданского назначения и их акций для распределения среди вернувшихся ветеранов.
Этого не должно было быть. Успех владельцев бизнеса и их союзников в отказе от управления экономикой во время войны – самая интересная часть книги Уилсона. К 1960-м годам военные в большей степени зависели от частных подрядчиков не только, чем во время войны, но и, возможно, чем когда-либо в предыдущий период своей истории. С девятнадцатого века до 1940-х годов половина кораблей ВМФ строилась на государственных верфях государственными служащими. Но менее чем через два десятилетия после окончания Второй мировой войны эта мощность полностью исчезла, и все новые военные корабли были построены частными подрядчиками. Крупные государственные инвестиции в другие области военного производства, которые задолго до войны перешли в руки частных владельцев.
К 1960-м годам военные в большей степени зависели от частных подрядчиков не только, чем во время войны, но и, возможно, чем когда-либо в предыдущий период своей истории. С девятнадцатого века до 1940-х годов половина кораблей ВМФ строилась на государственных верфях государственными служащими. Но менее чем через два десятилетия после окончания Второй мировой войны эта мощность полностью исчезла, и все новые военные корабли были построены частными подрядчиками. Крупные государственные инвестиции в другие области военного производства, которые задолго до войны перешли в руки частных владельцев.
Wilson показывает, что это колоссальное сокращение общественного производства не было неизбежным и не было вызвано соображениями эффективности. Это был идеологический проект, продвигаемый лидерами бизнеса. Даже в дни после Перл-Харбора, когда были санкционированы десятки предприятий, финансируемых государством и принадлежащих государству, консерваторы, такие как сенатор Роберт Тафт, были полны решимости обеспечить, чтобы эти предприятия, финансируемые налогоплательщиками, в конечном итоге были «возвращены» в частный бизнес – результат, который потребует, чтобы Конгресс «постоянно был начеку и был полон решимости восстановить систему частных и управляемых предприятий». К концу войны консерваторы в значительной степени вытеснили экономистов Нового курса, таких как Эвелин Бернс и Элвин Хансен, чей Совет по планированию национальных ресурсов разрабатывал планы по превращению государственных военных объектов в государственные корпорации в стиле TVA. Вместо этого в дискуссии доминировали подобные доклады Баруха-Хэнкока, в которых за отправную точку было взято, что главным приоритетом должно быть «выведение правительства из бизнеса». Закон о занятости 1946 года, одна из жемчужин послевоенного кейнсианства, официально закрепил общественное обязательство избегать возврата к массовой безработице 1930-х годов, но при этом оговаривал, что полная занятость должна быть достигнута только с помощью политики, которая «поощряет и продвигает свободное частное предпринимательство.”
К концу войны консерваторы в значительной степени вытеснили экономистов Нового курса, таких как Эвелин Бернс и Элвин Хансен, чей Совет по планированию национальных ресурсов разрабатывал планы по превращению государственных военных объектов в государственные корпорации в стиле TVA. Вместо этого в дискуссии доминировали подобные доклады Баруха-Хэнкока, в которых за отправную точку было взято, что главным приоритетом должно быть «выведение правительства из бизнеса». Закон о занятости 1946 года, одна из жемчужин послевоенного кейнсианства, официально закрепил общественное обязательство избегать возврата к массовой безработице 1930-х годов, но при этом оговаривал, что полная занятость должна быть достигнута только с помощью политики, которая «поощряет и продвигает свободное частное предпринимательство.”
Возможно, самый большой вклад книги Уилсона состоит в том, что демонтаж аппарата планирования военного времени был идеологическим проектом, который настойчиво продвигали ради самого себя. В этом смысле книга служит своего рода приквелом к книге Кима Филлипс-Фейна Invisible Hands (2010), посвященной усилиям бизнеса по обращению вспять Нового курса. Сегодня, когда роль частных собственников в производстве воспринимается как должное, полезно напомнить, что в тот решающий момент частная собственность упорно преследовалась как самоцель.
В этом смысле книга служит своего рода приквелом к книге Кима Филлипс-Фейна Invisible Hands (2010), посвященной усилиям бизнеса по обращению вспять Нового курса. Сегодня, когда роль частных собственников в производстве воспринимается как должное, полезно напомнить, что в тот решающий момент частная собственность упорно преследовалась как самоцель.
J.W. Мейсон – доцент экономики в Колледже Джона Джея в CUNY и научный сотрудник Института Рузвельта.
Действительно ли свободные рынки по-прежнему превосходят централизованное планирование? Авторы: Эндрю Шэн и Сяо Гэн
Институциональные механизмы – это сложные системы, сформированные историей, географией и культурой. Цель должна заключаться не в том, чтобы определить универсальный подход, а в том, чтобы разработать комбинацию характеристик, которая принесет наибольшую пользу наибольшему количеству людей при правильных сдержках и противовесах.
ГОНКОНГ. В 1944 году Фридрих А. Хайек предположил, что стихийный порядок рынков по своей сути превосходит якобы истощающий динамизм тоталитарный порядок коммунистических или фашистских режимов. Последующие десятилетия, когда экономика свободного рынка процветала, а централизованно планируемая экономика Советского Союза рухнула, казалось, его оправдали. Затем появился Китай.
В 1944 году Фридрих А. Хайек предположил, что стихийный порядок рынков по своей сути превосходит якобы истощающий динамизм тоталитарный порядок коммунистических или фашистских режимов. Последующие десятилетия, когда экономика свободного рынка процветала, а централизованно планируемая экономика Советского Союза рухнула, казалось, его оправдали. Затем появился Китай.
- Что США неправильно понимают в отношении России Питер Клаунзер / Пул / Кистоун через Getty Images
Показатели феноменального экономического подъема Китая хорошо известны: три десятилетия роста ВВП, выраженного двузначными числами; около 700 миллионов человек вырвались из нищеты; инфраструктурный бум; появление инновационных технологических гигантов; и комплексный план непрерывного (устойчивого) роста и развития.
Успех Китая подорвал веру в то, что свободные рынки представляют собой лучшую стратегию развития для всех, до такой степени, что даже Международный валютный фонд – долгое время ведущий поборник идеологии свободного рынка – переосмысливает свои собственные ортодоксальные взгляды. Тем не менее, централизованное планирование в китайском стиле все еще вызывает пренебрежение на Западе, где наблюдатели пренебрежительно относятся к нему за предполагаемую непрозрачность и репрессивность.
Но действительно ли китайская система диаметрально противоположна системе, скажем, США? Одним словом: нет.
Несмотря на громкую поддержку свободных рынков, расходы правительства США неуклонно росли с 1970 года. В 2019 году они составили 35,7% ВВП по сравнению с 34,8% ВВП в Китае.
Кризис COVID-19 усилил эту тенденцию. Действительно, своим экономическим восстановлением Америка во многом обязана масштабному вмешательству правительства. Более того, администрация президента Джо Байдена в настоящее время продвигает законодательные акты – Американский план создания рабочих мест и Американский семейный план, – которые значительно повысили бы экономическую роль правительства.
Подпишитесь на Project SyndicateПодписаться на Project Syndicate
Наш новейший журнал На год вперед 2022: Расчеты уже здесь. Чтобы получать печатную копию, доставленную в любую точку мира, подпишитесь на PS менее чем за 9 долларов в месяц .
Чтобы получать печатную копию, доставленную в любую точку мира, подпишитесь на PS менее чем за 9 долларов в месяц .
Как подписчик PS , вы также получите неограниченный доступ к нашему набору расширенного контента премиум-класса, интервью с участниками Say More, тематическим коллекциям The Big Picture и полному архиву PS .
Подпишись сейчас
Поскольку и Китай, и США движутся к большей централизации власти над экономикой, становится ясно, что общие дихотомии, такие как «государство против рынка» и «капитализм против социализма», являются чрезмерно упрощенными. Обе страны сталкиваются со многими схожими проблемами, начиная с обеспечения того, чтобы плутократические элиты не принимали решения за счет масс.
И государство, и рынок – социальные конструкции. Если рынки организуются спонтанно, исходя из личных интересов, как заметил Хайек, возможно, что растущая бюрократия как в социалистических, так и в капиталистических странах руководствуется своими корыстными интересами. Если это правда, становится жизненно важным ограничить эти интересы, чтобы гарантировать, что государство по-прежнему сосредоточено на предоставлении социальных благ.
Если рынки организуются спонтанно, исходя из личных интересов, как заметил Хайек, возможно, что растущая бюрократия как в социалистических, так и в капиталистических странах руководствуется своими корыстными интересами. Если это правда, становится жизненно важным ограничить эти интересы, чтобы гарантировать, что государство по-прежнему сосредоточено на предоставлении социальных благ.
Пока США цепляются за свою идентичность системы свободного рынка, они будут бороться с этим вызовом. Напротив, то, о чем президент Дуайт Эйзенхауэр предупреждал в своем прощальном обращении, – «приобретение необоснованного влияния» «военно-промышленным комплексом» – может продолжаться, не ослабевая (хотя сегодня это может быть переименовано в «военно-промышленные, технологические и финансовые СМИ»). сложный”).
Это может в какой-то мере объяснить, почему сегодня так низко доверие к учреждениям США. Из 26 стран, включенных в Барометр доверия Edelman 2020, США заняли 18-е место по уровню доверия к НПО, бизнесу, правительству и СМИ среди населения в целом. В 2021 году он занял 21-е место.
Из 26 стран, включенных в Барометр доверия Edelman 2020, США заняли 18-е место по уровню доверия к НПО, бизнесу, правительству и СМИ среди населения в целом. В 2021 году он занял 21-е место.
Напротив, китайские НПО, бизнес, правительство и СМИ вместе пользовались наивысшим уровнем доверия в 2020 году. Хотя этот уровень снизился на десять процентных пунктов (с 82% до 72%) в 2021 году, Китай остается на втором месте.
Это, вероятно, отражает тот факт, что Китай доказал свою способность воплощать политические цели в конкретные проекты и программы с видимыми выгодами для всего населения, а не только для элит. Согласно недавнему исследованию, основанному на данных опроса с 2003 по 2016 год, «более бедные жители Китая считают, что правительство становится все более эффективным в предоставлении базовых медицинских услуг, социального обеспечения и других государственных услуг».
Для немецкого политолога Себастьяна Хейльмана «неортодоксальная» политика Китая – вместе с стойкостью Коммунистической партии – делает страну «красным лебедем»: «девиантным и непредсказуемым» вызовом западной модели развития. Мы бы сказали, что Китай вовсе не отклонение от нормы, и его успех не должен шокировать.
Мы бы сказали, что Китай вовсе не отклонение от нормы, и его успех не должен шокировать.
Китай максимально использовал централизованное планирование для проведения адаптивного и экспериментального процесса выработки политики, с помощью которого институциональные структуры постоянно обновляются для отражения новых идей и передовой практики, адаптированных к местным условиям. Как недавно отметил Цзян Сяоцзюань, «воля наверху» жизненно важна для прогресса, поскольку она предотвращает тупиковые ситуации по таким сложным вопросам, как изменение климата, когда корыстные интересы могут легко заблокировать прогресс.
Но это не означает, что политика в Китае не является совместной. Напротив, прежде чем принять важное политическое решение, лидеры Китая консультируются с аналитическими центрами и учеными, чтобы получить теоретические знания, и посещают местные сообщества, чтобы узнать о ситуации на местах. Затем они запускают пилотные программы для выявления и решения практических вопросов реализации, тем самым разрабатывая реформы и программы, которые можно адаптировать к большему количеству контекстов.
Затем они запускают пилотные программы для выявления и решения практических вопросов реализации, тем самым разрабатывая реформы и программы, которые можно адаптировать к большему количеству контекстов.
Безусловно, подход Китая не застрахован от погони за рентой или закрепления особых привилегий.Целенаправленное применение политики и программ может вызвать фрагментацию, расточительство и чрезмерную конкуренцию – все это может подорвать стремление Китая построить открытую, сложную и динамичную рыночную экономику.
Кроме того, как показали Джиын Ким и Кевин Дж. О’Брайен, бюрократия может активно сопротивляться прогрессу, а местные чиновники опасаются, например, что большая прозрачность может подорвать их оперативную гибкость и перспективы продвижения по службе. Но то же самое может произойти, если отдельные участники рынка приобретут слишком большое влияние.Преодоление таких проблем требует ловкости, творческого подхода и политической воли.
Итак, свободные рынки по-прежнему превосходят централизованное планирование? Что ж, это, наверное, неправильный вопрос.
Институциональные механизмы – это сложные системы, сформированные историей, географией и культурой. Цель должна заключаться не в том, чтобы определить универсальный подход, а в том, чтобы разработать комбинацию характеристик, которая принесет наибольшую пользу наибольшему количеству людей при правильной системе сдержек и противовесов в конкретной стране.
Здесь китайская система политических экспериментов, внедрения и институционализации «алгоритмов» реформ для поддержки постоянной адаптации в постоянно меняющейся среде изменила правила игры для развития страны. Доказательство в результатах.
Плановая экономика – Academic Kids
От академических детей
Плановая экономика – это экономическая система, в которой экономические решения принимаются централизованными плановиками, которые определяют, какие виды товаров и услуг производить и как они должны оцениваться и распределяться, и может включать в себя государственную собственность на средства производства. Поскольку большинство известных плановых экономик основаны на планах, реализуемых через командование, они стали широко известны как командной экономики . Любая экономическая система, централизованно планируемая правительством , обычно называется экономическим этатизмом . Чтобы подчеркнуть централизованный характер плановой экономики и противопоставить этот термин децентрализованному планированию в рыночной экономике, также используется более конкретный термин – централизованно планируемая экономика . Хотя плановая экономика может включать обмен денег, этот обмен менее важен для распределения ресурсов, чем центральный план.
Поскольку большинство известных плановых экономик основаны на планах, реализуемых через командование, они стали широко известны как командной экономики . Любая экономическая система, централизованно планируемая правительством , обычно называется экономическим этатизмом . Чтобы подчеркнуть централизованный характер плановой экономики и противопоставить этот термин децентрализованному планированию в рыночной экономике, также используется более конкретный термин – централизованно планируемая экономика . Хотя плановая экономика может включать обмен денег, этот обмен менее важен для распределения ресурсов, чем центральный план.
Дворцовую экономику можно рассматривать как натуральное хозяйство, дополненное элементами командной экономики.
Сторонники и противники плановой экономики приводят ряд аргументов. Целью данной статьи не является обсуждение обоснованности или применимости этих аргументов.
Поддержка централизованно планируемой экономики
Сторонники плановой экономики рассматривают их как практическую меру по обеспечению производства необходимых товаров, не полагающуюся на капризы свободных рынков.
Некоторые сторонники централизованной плановой экономики, в частности административно-командной системы советского типа, заявляют о следующих преимуществах. Правительство может использовать землю, труд и капитал для достижения экономических целей государства (которые, в свою очередь, могут быть решены народом в рамках демократического процесса). Потребительский спрос можно ограничить в пользу увеличения капиталовложений для экономического развития по желаемой схеме. Например, многие современные общества не могут разработать определенные лекарства и вакцины, которые медицинские компании считают невыгодными, а общественные активисты – необходимыми для общественного здравоохранения.Государство может сразу начать строительство тяжелой промышленности в условиях слаборазвитой экономики, не дожидаясь годами накопления капитала за счет расширения легкой промышленности, и не полагаясь на внешнее финансирование. Во-вторых, плановая экономика может максимизировать непрерывное использование всех доступных ресурсов. Это означает, что плановая экономика не страдает от экономического цикла. В условиях плановой экономики ни безработица, ни простаивающие производственные мощности не должны превышать минимальных уровней, а экономика должна развиваться стабильно, не сдерживаясь инфляцией или рецессией.Плановая экономика может служить общественным, а не индивидуальным целям: при такой системе вознаграждения, будь то заработная плата или льготы, должны распределяться в соответствии с общественной ценностью оказанных услуг. Плановая экономика устраняет зависимость производства от индивидуальных мотивов получения прибыли, которые сами по себе не могут удовлетворить все потребности общества.
Это означает, что плановая экономика не страдает от экономического цикла. В условиях плановой экономики ни безработица, ни простаивающие производственные мощности не должны превышать минимальных уровней, а экономика должна развиваться стабильно, не сдерживаясь инфляцией или рецессией.Плановая экономика может служить общественным, а не индивидуальным целям: при такой системе вознаграждения, будь то заработная плата или льготы, должны распределяться в соответствии с общественной ценностью оказанных услуг. Плановая экономика устраняет зависимость производства от индивидуальных мотивов получения прибыли, которые сами по себе не могут удовлетворить все потребности общества.
В целом, централизованно планируемая экономика будет пытаться заменить несколько фирм одной фирмой для всей экономики. Таким образом, стабильность плановой экономики имеет значение для теории фирмы.В конце концов, большинство корпораций, по сути, являются «централизованно планируемой экономикой», за исключением некоторых символических внутрикорпоративных цен (не говоря уже о том, что политика некоторых корпораций напоминает политику Советского Политбюро). То есть корпорации – это, по сути, миниатюрные экономики с централизованно планируемой экономикой, и, похоже, они прекрасно справляются со свободным рынком. Как указали Кеннет Эрроу и другие, существование фирм на свободных рынках показывает, что на свободных рынках есть потребность в фирмах; Противники плановой экономики просто утверждали бы, что нет необходимости в единственной фирме для всей экономики.
То есть корпорации – это, по сути, миниатюрные экономики с централизованно планируемой экономикой, и, похоже, они прекрасно справляются со свободным рынком. Как указали Кеннет Эрроу и другие, существование фирм на свободных рынках показывает, что на свободных рынках есть потребность в фирмах; Противники плановой экономики просто утверждали бы, что нет необходимости в единственной фирме для всей экономики.
Возражения против централизованно планируемой экономики
Критики командной экономики утверждают, что планировщики не могут определять спрос с достаточной точностью (в рыночной экономике для этой цели служат ценовые сигналы). Например, в определенные периоды истории Советского Союза дефицит был настолько распространен, что можно было часами стоять в очереди, чтобы купить основные потребительские товары, такие как обувь или хлеб. Эта нехватка частично объяснялась тем, что центральные планировщики решили, например, что производство тракторов было более важным, чем производство обуви в то время, или потому что не было дано команд снабжать обувную фабрику нужным количеством кожи, или потому что центральные планировщики не дали обувным фабрикам стимула производить необходимое количество обуви требуемого качества. На эту трудность впервые обратил внимание экономист Людвиг фон Мизес, который назвал ее «проблемой экономических расчетов». Экономист Янош Корнаи развил это в теории экономики дефицита.
На эту трудность впервые обратил внимание экономист Людвиг фон Мизес, который назвал ее «проблемой экономических расчетов». Экономист Янош Корнаи развил это в теории экономики дефицита.
Критики также утверждают, что заявленные преимущества последнего на самом деле достижимы путем государственного вмешательства и в рамках рыночной экономики. В частности, в условиях рыночной экономики можно создавать нерентабельные, но общественно полезные товары. Например, можно было бы производить новое лекарство, если правительство собирает налоги, а затем тратит деньги на общественное благо.Также утверждается, что рыночная экономика действительно позволяет обществу оценивать стоимость социальных благ и рационально выбирать между различными альтернативами.
Критики также отмечают, что для некоторых типов командной экономики может потребоваться государство, которое сильно вмешивается в личную жизнь людей. Например, если государство руководит всем трудоустройством, то возможности карьерного роста могут быть более ограниченными. Если товары распределяются государством, а не рыночной экономикой, граждане не могут, например, переехать в другое место без разрешения государства, потому что они не смогут приобретать продукты питания или жилье в новом месте, поскольку это не было заранее запланировано для ( однако сторонники плановой экономики могут указать, что рыночная экономика также не гарантирует наличие еды и жилья на новом месте).
Если товары распределяются государством, а не рыночной экономикой, граждане не могут, например, переехать в другое место без разрешения государства, потому что они не смогут приобретать продукты питания или жилье в новом месте, поскольку это не было заранее запланировано для ( однако сторонники плановой экономики могут указать, что рыночная экономика также не гарантирует наличие еды и жилья на новом месте).
Плановая экономика и социализм
Подробнее о советском экономическом планировании см. Планирование в советской экономике.
Большинство плановой экономики осуществлялось государствами, которые называли себя социалистическими. Тем не менее плановую экономику не следует рассматривать как необходимый элемент социализма. Значительный объем централизованного планирования в экономике, контролируемой государством, оказался возможным в контексте рыночной экономики.
Некоторые использовали критику командной экономики как средство возражения против социализма. Однако многие социалисты указывали, что социализм (социал-демократического типа) в Западной Европе возникает в контексте рыночной экономики, а не командной экономики. Действительно, Китайская Народная Республика называет свою экономику социалистической рыночной экономикой.
Однако многие социалисты указывали, что социализм (социал-демократического типа) в Западной Европе возникает в контексте рыночной экономики, а не командной экономики. Действительно, Китайская Народная Республика называет свою экономику социалистической рыночной экономикой.
Однако точное определение «социализма» горячо оспаривается несколькими политическими группами, которые идентифицируют себя как «социалистические» (включая марксистов, социал-демократов, либертарианских социалистов, анархистов и др.), И, следовательно, взаимосвязь между плановой экономикой и социализм зависит от того вида социализма, о котором идет речь (например, ортодоксальные марксисты утверждают, что государственное планирование необходимо для социализма, в то время как анархисты и либертарианские социалисты гораздо более скептически относятся к легитимности центральной власти).
Переход от плановой экономики к рыночной
Переход от командной экономики к рыночной оказался трудным, в частности, не существовало теоретических руководств для этого до 1990-х годов. Одним из способов перехода от командной экономики к рыночной, который широко считается успешным, является переход Китайской Народной Республики, в котором был период в несколько лет, продолжавшийся примерно до начала 1990-х годов, когда и командная экономика, и рыночная экономика сосуществовали так, что при смешанной экономике никто не был бы намного хуже, чем при командной экономике, в то время как некоторым людям было бы намного лучше.Постепенно доли экономики в условиях командной экономики сокращались до середины 1990-х годов, когда распределение ресурсов почти полностью определялось рыночными механизмами.
Одним из способов перехода от командной экономики к рыночной, который широко считается успешным, является переход Китайской Народной Республики, в котором был период в несколько лет, продолжавшийся примерно до начала 1990-х годов, когда и командная экономика, и рыночная экономика сосуществовали так, что при смешанной экономике никто не был бы намного хуже, чем при командной экономике, в то время как некоторым людям было бы намного лучше.Постепенно доли экономики в условиях командной экономики сокращались до середины 1990-х годов, когда распределение ресурсов почти полностью определялось рыночными механизмами.
Напротив, переходный период Советского Союза был гораздо более проблематичным, и его республики-преемники столкнулись с резким падением ВВП в начале 1990-х годов. Хотя с тех пор ситуация улучшилась, этим странам еще предстоит обеспечить высокие темпы устойчивого экономического роста, которые имеет Китай.
Статьи по теме
Сравнить
Контраст
de: Planwirtschaft ja: 計画 経 済 nl: Centraal geleideconomie ск: Прказов экономика
Экономика, 1949–1978 – китаеведение
Введение
Экономика Китая в течение первых трех десятилетий правления Коммунистической партии Китая была организована принципиально иначе, чем рыночная экономика в большей части остального мира и из того, во что превратилась китайская экономика в 21 веке после трех десятилетий рыночных экономических реформ. Начиная с середины 1950-х годов, Китай ввел централизованно планируемую командную экономику по образцу Советского Союза. Эта экономическая система предусматривала отмену домашнего сельского хозяйства в пользу коллективов, сначала называвшихся «сельскохозяйственными производственными кооперативами», а затем «сельскими народными коммунами». Производственные ресурсы и продукция распределялись административным путем в соответствии с планом, разработанным Государственной плановой комиссией, и рыночные силы были в значительной степени устранены в промышленности и крупной торговле.Устанавливалась заработная плата, и квалифицированные рабочие распределялись на рабочие места государством, а не рынком труда. Даже многие потребительские товары были нормированы, хотя некоторые были распределены среди домашних хозяйств через рынок; цены, выплачиваемые фермерам, также играли ограниченную роль в государственных закупках сельскохозяйственной продукции. Однако эта высокоцентрализованная нерыночная система советского типа была введена в совершенно иной контекст крайне бедной развивающейся страны.
Начиная с середины 1950-х годов, Китай ввел централизованно планируемую командную экономику по образцу Советского Союза. Эта экономическая система предусматривала отмену домашнего сельского хозяйства в пользу коллективов, сначала называвшихся «сельскохозяйственными производственными кооперативами», а затем «сельскими народными коммунами». Производственные ресурсы и продукция распределялись административным путем в соответствии с планом, разработанным Государственной плановой комиссией, и рыночные силы были в значительной степени устранены в промышленности и крупной торговле.Устанавливалась заработная плата, и квалифицированные рабочие распределялись на рабочие места государством, а не рынком труда. Даже многие потребительские товары были нормированы, хотя некоторые были распределены среди домашних хозяйств через рынок; цены, выплачиваемые фермерам, также играли ограниченную роль в государственных закупках сельскохозяйственной продукции. Однако эта высокоцентрализованная нерыночная система советского типа была введена в совершенно иной контекст крайне бедной развивающейся страны.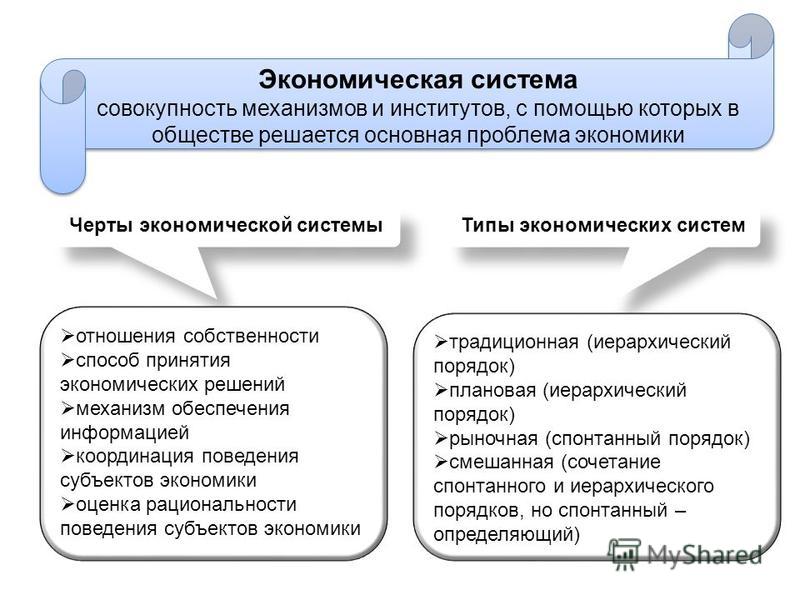 С самого начала руководство Китая и, в частности, председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна, изучали альтернативы жесткому централизованному контролю.Результатом этих исследований чаще всего была экономическая катастрофа, приводившая к голоду 1959–1961 годов, в результате которого, как полагают, умерло около тридцати миллионов человек. Правительство и руководство также преследовали политические цели, особенно во время Культурной революции (1966–1976), которая подорвала экономику и замедлила экономический рост. Таким образом, экономические исследования в этот период были сосредоточены на том, как была организована экономика, как она совершила переход от рыночной экономики к нерыночной командной экономике и как функционировали институты и эффективность этой командной экономики в различные периоды.Описывать институты было проще, чем измерять эффективность, потому что с 1958 по 1960 год Китай публиковал данные, которые сильно преувеличивали экономические показатели Китая. После 1960 года, учитывая реальность голода и плохую экономику в целом, правительство просто прекратило публиковать статистические данные об экономических показателях.
С самого начала руководство Китая и, в частности, председателя Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна, изучали альтернативы жесткому централизованному контролю.Результатом этих исследований чаще всего была экономическая катастрофа, приводившая к голоду 1959–1961 годов, в результате которого, как полагают, умерло около тридцати миллионов человек. Правительство и руководство также преследовали политические цели, особенно во время Культурной революции (1966–1976), которая подорвала экономику и замедлила экономический рост. Таким образом, экономические исследования в этот период были сосредоточены на том, как была организована экономика, как она совершила переход от рыночной экономики к нерыночной командной экономике и как функционировали институты и эффективность этой командной экономики в различные периоды.Описывать институты было проще, чем измерять эффективность, потому что с 1958 по 1960 год Китай публиковал данные, которые сильно преувеличивали экономические показатели Китая. После 1960 года, учитывая реальность голода и плохую экономику в целом, правительство просто прекратило публиковать статистические данные об экономических показателях. Таким образом, многим аналитикам за пределами Китая пришлось собрать воедино просочившиеся данные, и большая часть их работы сумела зафиксировать то, что происходило. Публикация все большего количества официальных данных, начиная с 1979 г., заполнила некоторые пробелы в более ранней литературе.От большинства китайских экономистов с 1949 по 1978 год ожидалось, что они будут следовать линии правительства / партии во всех своих публикациях; однако были исключения, когда отдельные экономисты и официальные лица высказывали мнения по экономическим вопросам, которые не отражали доминирующую линию правительства / партии.
Таким образом, многим аналитикам за пределами Китая пришлось собрать воедино просочившиеся данные, и большая часть их работы сумела зафиксировать то, что происходило. Публикация все большего количества официальных данных, начиная с 1979 г., заполнила некоторые пробелы в более ранней литературе.От большинства китайских экономистов с 1949 по 1978 год ожидалось, что они будут следовать линии правительства / партии во всех своих публикациях; однако были исключения, когда отдельные экономисты и официальные лица высказывали мнения по экономическим вопросам, которые не отражали доминирующую линию правительства / партии.
Библиографии
Основные библиографии, посвященные экономике Китая с 1949 по 1978 год, включают Skinner, et al. 1973 г., монументальный трехтомник. Многие из работ, перечисленных в томе 1, томе на западном языке, представляют собой общие эссе, которые дают представление о том, как аналитики в Соединенных Штатах и Европе рассматривают экономическую политику и показатели Китая, учитывая ограниченный объем данных, доступных в то время, и политические ограничения, ограничивавшие информацию, о которой могли писать экономисты, работающие в Китае.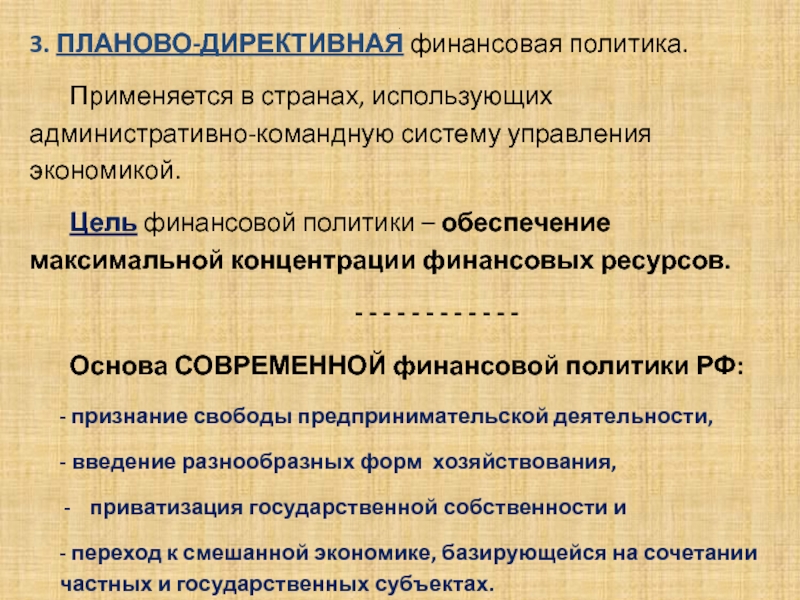 Вероятно, наиболее полезным для американского или европейского исследователя является третий том на японском языке, в котором цитируются работы таких видных японских специалистов по китайской экономике, как Сигэру Исикава и Рейицу Кодзима, с которыми большинство западных экономистов наименее знакомы. Том 2, издание на китайском языке, включает исследования, проведенные специалистами Тайваня и Гонконга, а также экономистами, работающими на материковой части Китая, но большинство этих работ подвержены тем же ограничениям из-за отсутствия данных и политических ограничений на умение писать объективно.Более поздняя библиография, Perkins 1983, сосредоточена в основном на избранных работах на английском языке, которые отражали лучший анализ, проведенный в основном западными экономистами того времени.
Вероятно, наиболее полезным для американского или европейского исследователя является третий том на японском языке, в котором цитируются работы таких видных японских специалистов по китайской экономике, как Сигэру Исикава и Рейицу Кодзима, с которыми большинство западных экономистов наименее знакомы. Том 2, издание на китайском языке, включает исследования, проведенные специалистами Тайваня и Гонконга, а также экономистами, работающими на материковой части Китая, но большинство этих работ подвержены тем же ограничениям из-за отсутствия данных и политических ограничений на умение писать объективно.Более поздняя библиография, Perkins 1983, сосредоточена в основном на избранных работах на английском языке, которые отражали лучший анализ, проведенный в основном западными экономистами того времени.
Перкинс, Дуайт Х. «Исследование экономики Китайской Народной Республики: обзор поля». Журнал азиатских исследований 42.2 (февраль 1983 г.): 345–372.
DOI: 10.
 2307 / 2055118
2307 / 2055118Это библиографическое эссе включает в себя работы в основном западных экономистов на английском языке, охватывающие годы до 1983 года, и охватывает большинство работ на английском языке, посвященных экономике Китая с 1949 по 1978 год.Доступно онлайн для покупки или по подписке.
Скиннер, Г. Уильям, Венсун Се и Шигеаки Томита, ред. Современное китайское общество: аналитическая библиография . 3 тт. Стэнфорд, Калифорния: Stanford University Press, 1973.
Том 1, Публикации на западных языках, 1644–1972 годы , под редакцией Скиннера, включает множество статей по экономике Китая за период 1949–1973 годов, но также включает статьи о других периодах и другие дисциплины. Том 2, Публикации на китайском языке, 1644–1969 гг. , под редакцией Скиннера и Се; Том 3, Публикации на японском, 1644–1971 гг. , под редакцией Скиннера и Томиты.
Пользователи без подписки не могут видеть полный контент на
эта страница.

