Публичное и частное в трудовом праве
В настоящей статье рассматриваются проблемы соотношения частного и публичного в трудовом праве, а также одна и особенностей метода трудового права – сочетание единства и дифференциации правового регулирования труда.
Одной из особенностей права является его деление на публичное и частное. По мнению ученых – правоведов это деление весьма условно. Частное право не может существовать без публичного, оно опирается на публичное право. В отдельную группу можно выделить такие отрасли российского права как трудовое право и право социального обеспечения, которые воплощают в себе паритет частных и публичных начал в праве.
Рассмотрим некоторые элементы сочетания частного и публичного на примере трудового права. На наш взгляд, следует начать с того, что одним из принципов правового регулирования трудовых отношений и одной из черт метода трудового права является учет наличия единства и дифференциации правового регулирования трудовых и непосредственно с ними связанных отношений.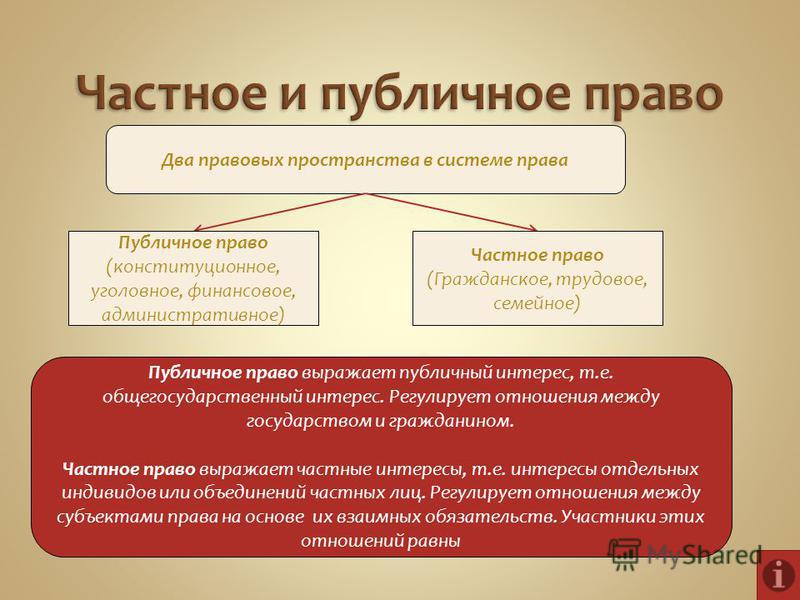
Так, единство правового регулирования свидетельствует о внутренней неразрывной связи всей совокупности норм, регулирующих общественные отношения, составляющие предмет трудового права, а дифференциация проявляется в наличии специальных норм, распространяющихся на отдельных категорий работников (например, женщин, подростков, инвалидов, лиц, работающих в особых климатических условиях, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными или иными особыми условиями труда, а также в отдельных отраслях экономики).
Единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений – взаимосвязанные категории, они раскрываются в науке трудового права без противопоставления их друг другу, отражаются во многих институтах трудового права. Подобная точка зрения высказана о соотношении публичного и частного в праве, «частное право опирается на публичное, без которого оно может быть бессильным, обесценненым. В общей правовой системе они тесно взаимосвязаны и не могут существовать одно без другого». В научной литературе подчеркивается, что «дифференциация способствует единству трудового права, а единство создает условия для дифференциации правового регулирования труда», и, как отмечал С.Л. Рабинович – Захарин, – «основные факторы единства и дифференциации правового регулирования труда не оставались неизменными», т.е. со временем их соотношение меняется.
В общей правовой системе они тесно взаимосвязаны и не могут существовать одно без другого». В научной литературе подчеркивается, что «дифференциация способствует единству трудового права, а единство создает условия для дифференциации правового регулирования труда», и, как отмечал С.Л. Рабинович – Захарин, – «основные факторы единства и дифференциации правового регулирования труда не оставались неизменными», т.е. со временем их соотношение меняется.
Общеизвестный факт, что единство правового регулирования обеспечивается закреплением соответствующих положений в Конституции РФ, кодифицированных нормативных правовых актах, к которым в первую очередь относится ТК РФ, в общих нормативных актах трудового законодательства, распространяющихся на всю территорию РФ и на всех работников. Единство обеспечивается общими конституционными принципами, отраженными в основных принципах правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, закрепленных в ст. 2 ТК РФ, а также установлением базовых трудовых прав и гарантий независимо от каких бы то ни было условий (отраслевых, климатических особенностей, характера труда и т.
Наряду с осуществлением единого для всех работников и работодателей регулирования законодатель применяет и дифференцированный подход к установлению условий труда, в чем как раз и происходит сочетание публичного и частного в праве. Это обусловлено объективными причинами, поскольку сфера применения труда является своеобразной областью общественной жизни, которая изменчива и зависит от множества факторов (климатических условий, производственных факторов, половозрастных особенностей, состояния здоровья и т.п.).
Считаем, что именно необходимость учета указанных обстоятельств с целью выравнивания гарантий в сфере труда, привела к установлению специальных норм права, частично ограничивающих применение общих правил по тем же вопросам в отношении одних работников, либо норм права, устанавливающих дополнительные гарантии для других.
Дифференциация правового регулирования трудовых отношений выражается в установлении особенностей правового регулирования труда для отдельных категорий работников, т.е. норм, частично ограничивающих применение общих правил по тем же вопросам либо предусматривающих для отдельных категорий работников дополнительные правила.
В ст. 252 ТК РФ законодатель предусматрел некоторые основания дифференциации: характер и условия труда, психофизиологические особенности организма, природно–климатические условия, наличие семейных обязанностей и др. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников могут быть установлены трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами.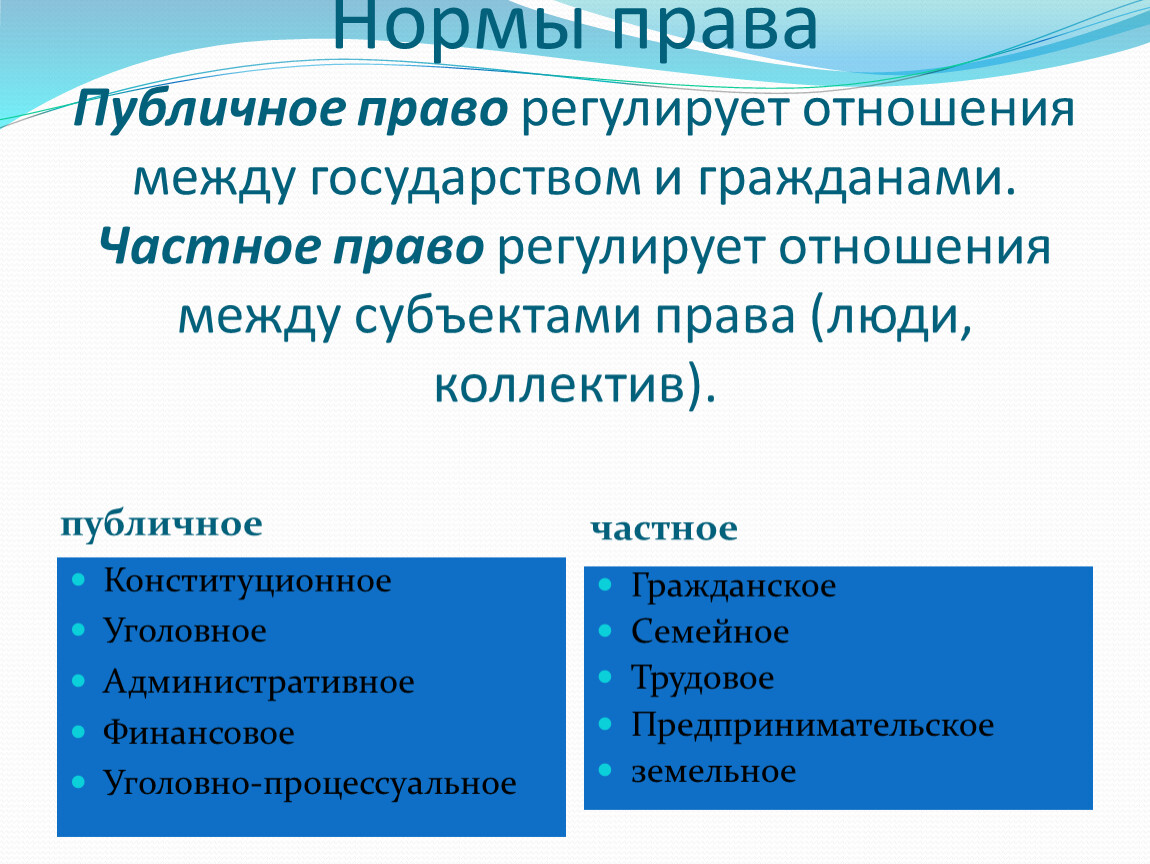 На наш взгляд, ст. 252 ТК РФ предусматривает важнейшее правило о том, что особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавливаться исключительно ТК РФ либо в случаях и в порядке, им предусмотренных.
На наш взгляд, ст. 252 ТК РФ предусматривает важнейшее правило о том, что особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий работникам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и (или) материальной ответственности, могут устанавливаться исключительно ТК РФ либо в случаях и в порядке, им предусмотренных.
Следует заметить, что среди ученых нет единого мнения по поводу определения понятия «дифференциация правового регулирования трудовых отношений». Понятие дифференциации дается в различных энциклопедических словарях и сводится в основном к такому пониманию, как различия в правовых нормах, обусловленные спецификой содержания, характера, условий труда, половозрастными особенностями работника и иными факторами.
Так, например, в словаре «Трудовое право. Энциклопедический словарь» дифференциация трудового законодательства рассматривается как «различия в правовых нормах, обусловленные спецификой содержания, характера и условий труда рабочих и служащих». В современной «Юридической энциклопедии» под дифференциацией понимается «разграничение правовых норм на основе юридически значимых факторов в целях конкретизации общих положений трудового законодательства к отдельным категориям работников».
В современной «Юридической энциклопедии» под дифференциацией понимается «разграничение правовых норм на основе юридически значимых факторов в целях конкретизации общих положений трудового законодательства к отдельным категориям работников».
Из научных разработок относительно понятия дифференциации можно остановиться на позиции В.Н. Толкуновой, которая определяла дифференциацию как «обусловленные объективными устойчивыми факторами, а также общественной необходимостью различия в содержании норм трудового законодательства, конкретизирующие общие положения правового регулирования труда применительно к различным категориям работников, но находящихся в различных условиях труда».
Анализируя проблемы дифференциации правового регулирования труда и их причины, А.И.Шебанова отмечает, что дифференциация вызвана «именно наличием таких устойчивых факторов или оснований, которые объективно определяют различия в условиях труда и поэтому требуют отражения этих различий в нормах трудового законодательства», именно эти «факторы должны определять реальное различие в условиях труда работников в течение значительного периода времени и обуславливаться социально-экономическими потребностями общества на данном этапе его развития».
Ст. 11 ТК РФ ообосновывает паритет публичного и частного в трудовом праве и устанавливает сферу действия общих норм, которые содержатся в ТК РФ и иных нормативных правовых актах в сфере труда и предусматривает особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Это связано с различными факторами дифференциации правового регулирования труда.
Говоря о такой тенденции в развитии современного трудового права и трудового законодательства, как укрепление единства и расширение дифференциации, под дифференциацией Г.С. Скачкова понимает «разграничение правовых норм на основе юридически значимых, устойчивых факторов в целях конкретизации общих положений трудового законодательства к отдельным категориям работников».
Кроме того, с учетом ст. 252 ТК РФ к основаниям дифференциации правового регулирования труда относятся не только объективные обстоятельства или факторы, но и субъектные, например, психофизиологические особенности организма, наличие семейных обязанностей и т.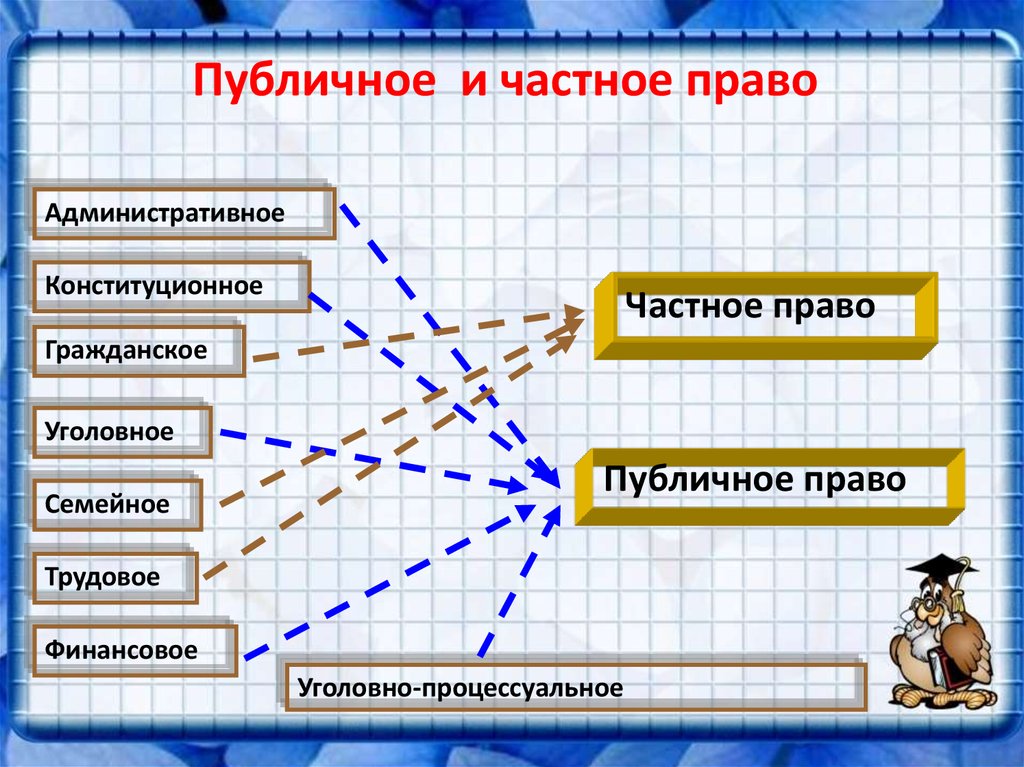 п.
п.
Обобщая мнения некоторых ученых, следует отметить, что дифференциация правового регулирования отражает наличие общих и специальных норм трудового законодательства, т.е. публичных и частных начал в трудовом праве . Специальные нормы можно классифицировать в зависимости от их содержания и от способа действия в соотношении с общими нормами на следующие виды: нормы – изъятия, нормы – дополнения, нормы – приспособления.
Обращаем нимание на то, что специальные нормы могут действовать одновременно с общими нормами (например, нормы – дополнения, нормы – приспособления) или специальные нормы могут исключать действие общих норм (например, нормы – изъятия, предусматривающие различные ограничения в сравнении с общими нормами).
Подводя итог, считаем, что ст. 251 ТК РФ не учитывает всего разнообразия специальных норм. В качестве особенностей регулирования труда в ней названы лишь нормы – изъятия и нормы дополнения, что, на наш взгляд, является недостатком, который может быть устранен путем внесения дополнений в указанную статью и включения в нее не только норм – изъятий и норм – дополнений, но и норм – приспособлений.
Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конституционных принципов в сфере труда Текст научной статьи по специальности «Право»
УДК 349.2+342.734 ББК Х405.111+Х400.32
йО!: 10.14529/!а\«160218
СОЧЕТАНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ НАЧАЛ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ В СФЕРЕ ТРУДА
М. С. Сагандыков
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск
В статье рассматриваются проблемы, связанные с реализацией конституционных принципов регулирования трудовых отношений. Особенности реализации обусловлены частно-публичным характером сферы труда, сочетанием публичных и частных интересов во взаимоотношениях работника и работодателя. Необходимо в каждом конституционном принципе выделять частноправовой и публично-правовой аспекты. Подчеркивается, что не следует конституционные принципы регулирования труда разделять на реализуемые через публичные и частные нормы права. Содержание одного и того же конституционного принципа позволяет его реализовать как в частных, так и в публичных отношениях, через императивные и диспозитивные нормы трудового права.
Подчеркивается, что не следует конституционные принципы регулирования труда разделять на реализуемые через публичные и частные нормы права. Содержание одного и того же конституционного принципа позволяет его реализовать как в частных, так и в публичных отношениях, через императивные и диспозитивные нормы трудового права.
Конституционные принципы призваны определить пределы государственно-властного вмешательства в процесс правового урегулирования частных взаимоотношений между работником и работодателем. Современной задачей законодателя является более четкое определение баланса государственных и частных интересов в сфере труда.
Ключевые слова: конституционные принципы, реализация принципов права, трудовые отношения, частное право, публичное право.
Конституция РФ содержит принципы, направленные на регулирование различных сфер общественных отношений, в том числе трудовых и смежных с ними. Для того чтобы конституционные принципы не оставались пустой декларацией, необходим эффективный процесс их реализации.
Для того чтобы конституционные принципы не оставались пустой декларацией, необходим эффективный процесс их реализации.
В свою очередь процесс реализации требует определения форм, методов его осуществления, наличия законодательно закрепленных правовых, экономических и политических гарантий [5, с. 323].
Вопросы реализации правовых предписаний наиболее полно раскрыты в общей теории права. По мнению С. С. Алексеева, реализация – «это претворение права в жизнь, реальное воплощение содержания правовых норм в фактическом поведении субъектов» [1, с. 114]. В. И. Леушин и В. Д. Перевалов под реализацией права понимают «осуществление юридически закрепленных и гарантированных государством возможностей, проведение их в жизнь в деятельности людей и их организаций» [7, с. 376].
В целом реализация конституционных положений подчиняется общим правилам реализации правовых норм.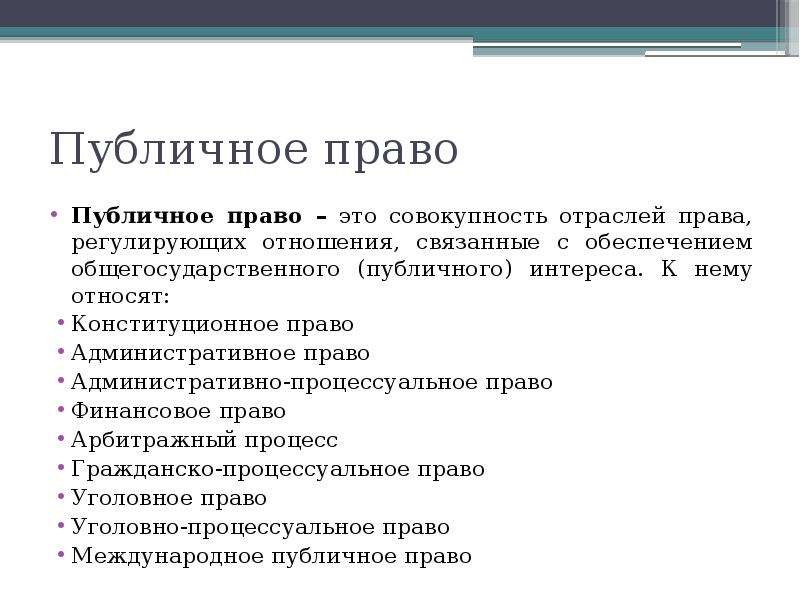 Но когда мы име-
Но когда мы име-
ем дело с конституционными принципами, то процесс реализации приобретает ряд специфических черт.
Н. Л. Ген [3, с. 54] приводит точку зрения Т. М. Пряхиной, которая считает, что реализация конституционных положений отличается от процесса реализации других правовых норм, прежде всего своим многоуровневым характером. Первый уровень реализации затрагивает конституционные отношения, связанные с наиболее сущностными характеристиками российского общества и государства. Сюда относятся форма государственного устройства, особенности организации государственной власти в стране, наконец, система взаимоотношений гражданина с государством. В свою очередь на втором уровне реализация конституционных предписаний затрагивает общественные отношения в различных сферах жизни. Первый уровень реализации проявляется в непосредственном применении конституции органами государственной власти, в том числе в форме законотворчества. Второй уровень выражен прежде всего в текущем правотворчестве и правоприменении. Конституционные нормы отражаются в отраслевом законодательстве, с помощью кото-
Второй уровень выражен прежде всего в текущем правотворчестве и правоприменении. Конституционные нормы отражаются в отраслевом законодательстве, с помощью кото-
рого и осуществляется правовое регулирование соответствующих общественных отношений [6, с. 65].
Известно, что формами реализации права являются его использование, исполнение, соблюдение, а также применение. Указанные формы в случае с конституционными положениями приобретают определенную специфику, которая объясняется несколькими факторами: повышенной значимостью норм Конституции РФ, широкой сферой действия, особенностью их типа, и структуры (нормы-принципы, нормы-дефиниции, нормы-задачи).
Несмотря на то, что в соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституции РФ ее нормы являются непосредственно действующими, основным способом реализации конституционных предписаний является их выражение в отраслевом законодательстве.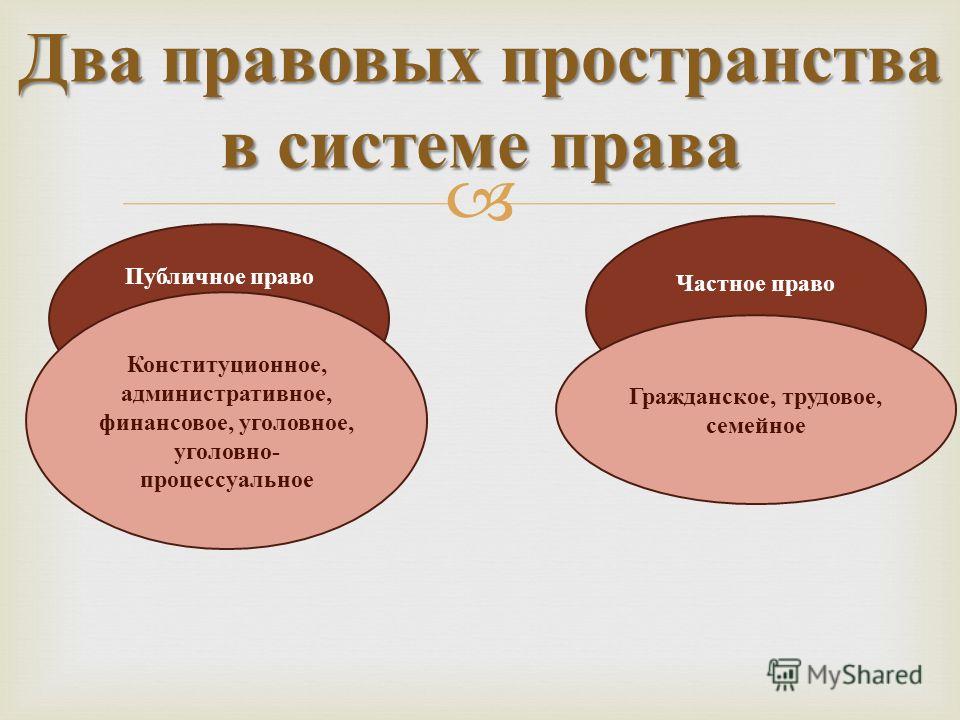 Поскольку закрепленные во второй главе Конституции РФ нормы по своему характеру являются не просто элементами конституционного статуса гражданина, но и принципами правового регулирования соответствующих общественных отношений, то необходимо рассматривать процесс их реализации как претворение в конкретные нормы общих идейно-руководящих положений.
Поскольку закрепленные во второй главе Конституции РФ нормы по своему характеру являются не просто элементами конституционного статуса гражданина, но и принципами правового регулирования соответствующих общественных отношений, то необходимо рассматривать процесс их реализации как претворение в конкретные нормы общих идейно-руководящих положений.
Особенности реализации конституционных принципов регулирования труда связаны со спецификой отношений в этой сфере. Многими авторами отмечается, что трудовое право нельзя в полной мере считать исключительно частной или публичной отраслью права. При этом соотношение частноправового и публично-правового аспектов рассматривается с позиции предмета и метода трудового права. Промежуточный характер отрасли трудового права между частным и публичным правом обусловлен сочетанием различных общественных отношений, формирующих сферу правого регулирования, а также комплексом государственно-властных, коллективно-договорных и индивидуально-договорных способов правового регулирования, определяющих метод трудового права [8, с.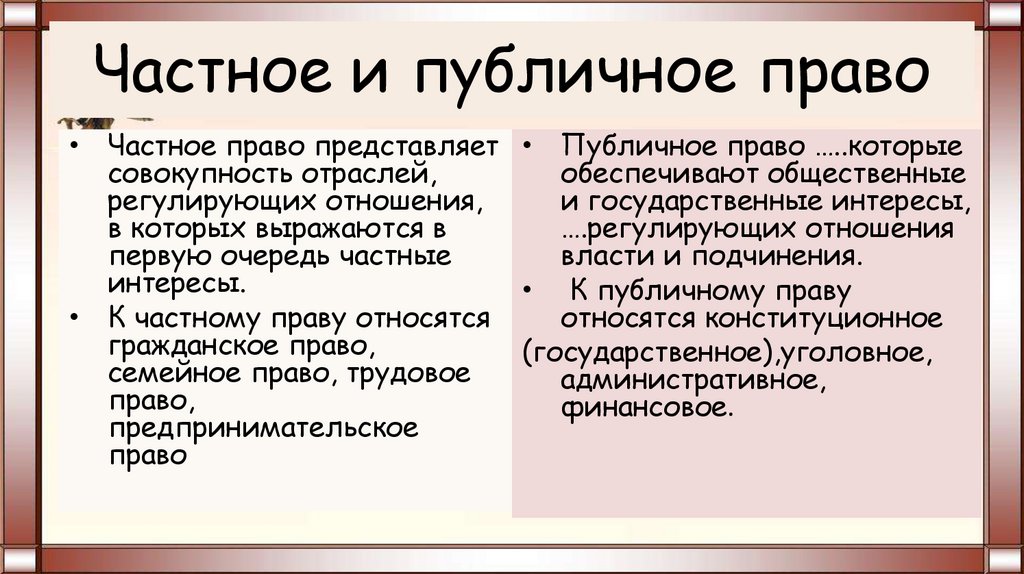 25].
25].
Сказанное дает основание полагать, что реализация конституционных принципов как особых правовых предписаний также должна подчиняться частно-публичному характеру сферы труда. Необходимо в каждом конституционном принципе выделять частноправовой и публично-правовой аспекты. Это касса-
ется всех форм реализации принципов – в правотворчестве, при устранении противоречий трудового законодательства, при непосредственном регулировании трудовых отношений.
С. С. Алексеев так характеризует публичную сторону права: она напрямую связана с властной, официальной деятельностью государства. Однако это не означает, что государство всегда непосредственно участвует в соответствующих правоотношениях. Главной чертой публично-правовых норм является направленность на обеспечение конкретного государственного или общественного интереса [1, с. 42].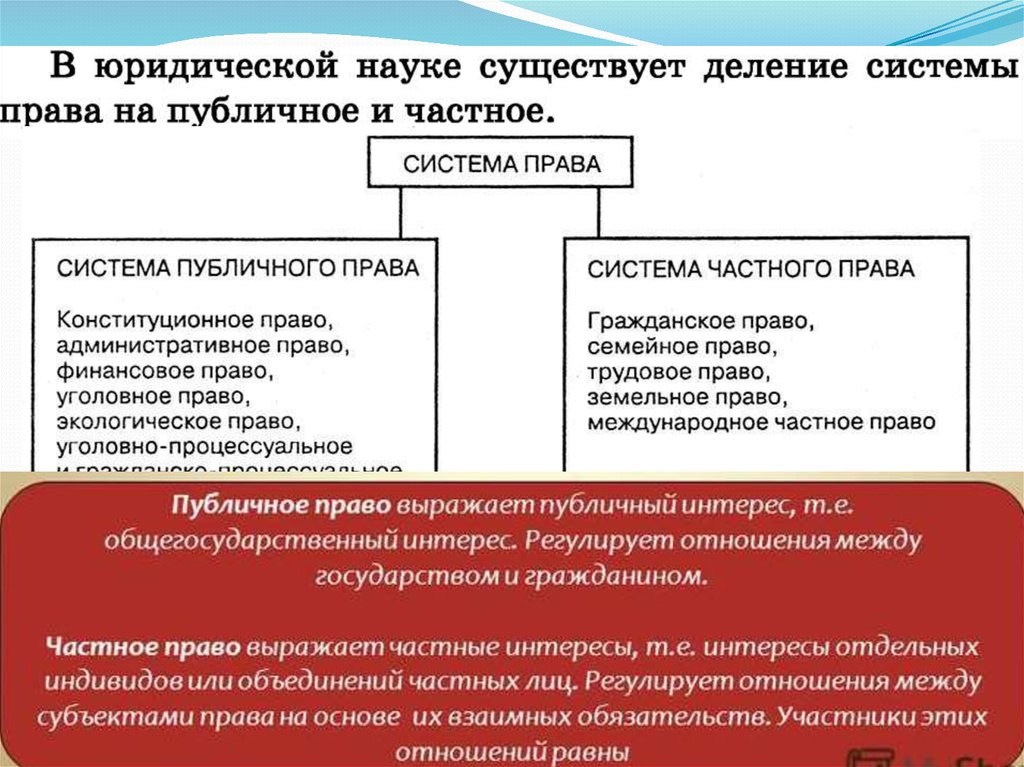
Применительно к сфере труда примером таких норм являются ограничения, связанные с использованием женского и детского труда (установление минимального возраста, дающего возможность устраиваться на работу, запрет сверхурочных работ для несовершеннолетних и беременных женщин и т.д.). Хотя данные нормы распространяются на трудовые отношения, в которых государственные органы могут и не принимать участие, они должны быть отнесены к разряду публично-правовых, поскольку отражают государственный интерес по защите семьи, материнства и детства.
В последние годы, как отмечает С. С. Алексеев, по мере углубления демократии публичное право все в большей степени включает нормы, ограничивающие произвол власти, охраняющие права человека [1, с. 42]. Так, ст. 23 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) ограничивает участие органов государственной власти и органов местного самоуправления в качестве стороны в социальном партнерстве случаями, когда они участвуют в качестве работодателей или их представителей.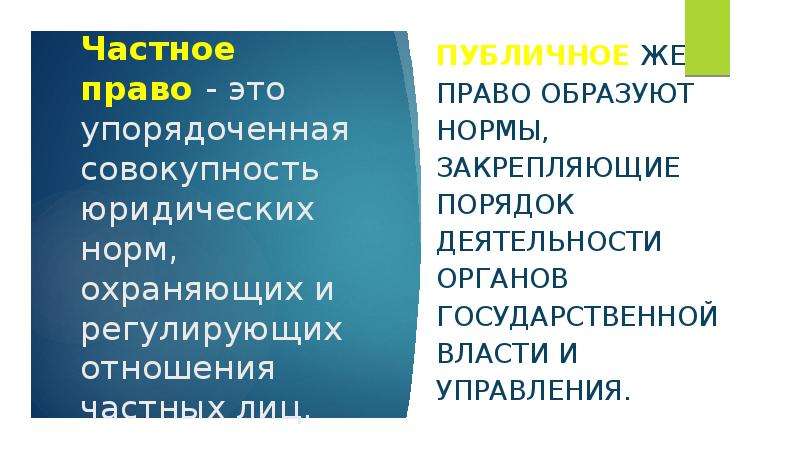
Вторая сторона – частноправовая – характеризуется децентрализацией, свободой отдельных субъектов. Здесь варианты решения той или иной жизненной ситуации закрепляются не только в строгих государственных установлениях, но и в соглашениях сторон [1, с. 42].
Вместе с тем не следует конституционные принципы регулирования труда разделять на реализуемые через публичные и частные нормы. Во-первых, выделение в трудовом законодательстве частной и публичной сторон достаточно условно, а, во-вторых, одни и те
Сагандыков М. С.
Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конститутционных…
же конституционные принципы распространяют свое действие и на частную, и на публичную сферы.
Особенностью регулирования сферы труда является наличие публичного интереса в частных взаимоотношениях работника и работодателя. Так, принцип свободы труда без сомнения реализуется в первую очередь через нормы частноправового характера о свободе трудового договора. Но даже частные отношения работника и работодателя ограничены рамками, установленными государством. Это могут быть определенные гарантии при приеме на работу, и, наоборот, запрет поступать на определенные должности, установленный для некоторых категорий работников (например, лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию не имеют право заниматься педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ)).
Так, принцип свободы труда без сомнения реализуется в первую очередь через нормы частноправового характера о свободе трудового договора. Но даже частные отношения работника и работодателя ограничены рамками, установленными государством. Это могут быть определенные гарантии при приеме на работу, и, наоборот, запрет поступать на определенные должности, установленный для некоторых категорий работников (например, лица, имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию не имеют право заниматься педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ)).
Можно возразить, что, например, гражданское право также изобилует различного рода ограничениями, ставящими стороны договора в определенные рамки. Но в любом случае такие ограничения или гарантии всегда направлены на обеспечение их частных интересов. В нашем же примере с ограничением права на труд лиц, имеющих судимость, защищаются интересы не работодателя и, конечно, не работника, а государства и общества, заинтересованного в должном обеспечении правопорядка, защите прав и законных интересов неопределенного круга лиц (в частности несовершеннолетних). Другими словами, реализация конституционных принципов в сфере труда направлена на защиту как частных, так и государственных (общественных) интересов. В связи с этим процесс реализации должен предусматривать частноправовую и публично-правовую направленность.
Другими словами, реализация конституционных принципов в сфере труда направлена на защиту как частных, так и государственных (общественных) интересов. В связи с этим процесс реализации должен предусматривать частноправовую и публично-правовую направленность.
Также нельзя забывать, что ряд отношений, непосредственно связанных с трудовыми (ст. 1 ТК РФ), предусматривает обязательное участие в них государственных органов (например, правоотношения по надзору (контролю) за исполнением работодателем трудового законодательства). Эти отношения преимущественно регулируются публичными нормами права.
Такие вопросы, как предоставление различных льгот, гарантий и компенсаций, с одной стороны, касаются частных интересов работника, а с другой – это результат реали-
зации государственной политики по защите семьи, материнства и детства. В связи с этим трудно говорить об отнесении соответствующих норм исключительно к публичной или частной сфере права.
С. Ю. Головина, на наш взгляд, верно определяет аспекты реализации принципов правового регулирования труда:
• основание для корректировки норм ТК РФ с целью приведения их в соответствие с международными стандартами;
• средство преодоления пробелов в праве;
• механизм, с помощью которого разрешаются коллизии норм трудового права;
• способ определения границ усмотрения субъекта трудового права [4, с. 18].
Конституционные принципы, помимо всего вышеперечисленного, призваны предоставить сторонам трудового отношения дополнительный механизм гарантирования их прав и свобод. Гарантирование, предполагает деятельность государства, направленную на обеспечение реализации прав и свобод граждан.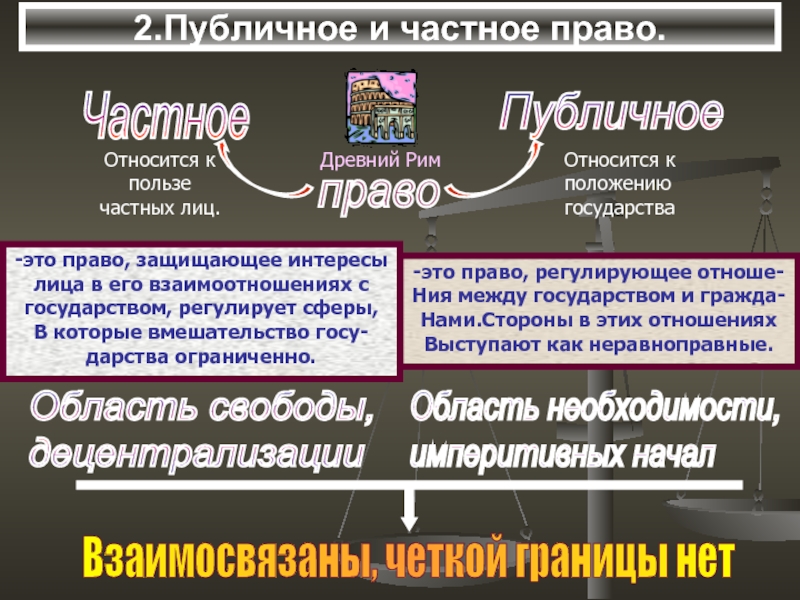 Закрепление в конституции принципов регулирования труда является отправной точкой гарантирования удовлетворения прав и законных интересов и работников, и работодателей.
Закрепление в конституции принципов регулирования труда является отправной точкой гарантирования удовлетворения прав и законных интересов и работников, и работодателей.
Т. И. Штринева справедливо отмечает, что «несовпадение экономических интересов работника и работодателя требует вмешательства третьей силы – государства с соответствующим механизмом регулирования. Государство выступает в роли уравновешивающей силы, соблюдающей экономические интересы обеих сторон» [9, с. 18].
По мнению Ю. В. Васькиной, «трудовые отношения сохраняют многие черты от прежней неравноправной модели, где работник был практически бесправен и беззащитен» [2, с. 68]. Трагичность ситуации, описанной Ю. В. Васькиной, несколько преувеличена, но и отрицать существование обозначенных автором проблем не стоит. Кроме того, государство по-прежнему остается крупнейшим работодателем. Имея при этом в своем арсенале различные средства правового воздействия (правотворчество, властные полномочия и т. д.), государство может определять социальную политику в своих интересах. В этом случае роль и значение конституционных принципов переоценить невозможно. Только они способны удержать государство от необдуманных действий и гарантировать минималь-
д.), государство может определять социальную политику в своих интересах. В этом случае роль и значение конституционных принципов переоценить невозможно. Только они способны удержать государство от необдуманных действий и гарантировать минималь-
ный уровень удовлетворения интересов человека и гражданина.
Однако превалирование частных интересов работников и работодателей не является абсолютным. Трудовое законодательство содержит немало норм, направленных на ограничение некоторых трудовых прав в угоду государственным интересам. Европейский Суд по правам человека однозначно дал понять, что государственные интересы внутренним законодательством могут ставиться выше частных. Такая позиция выражена, в частности, в Решении Европейского Суда по правам человека от 8 февраля 2001 г. «По вопросу приемлемости жалобы № 47936/99, поданной Галиной Питкевич против Российской Федерации».
Г. Питкевич утверждала, что ее отставка с должности судьи и лишение судейского класса является несправедливым, поскольку является результатом выражения ее религиозных взглядов. По словам заявителя, был нарушен принцип, связанный с запретом дискриминации в сфере труда.
Питкевич утверждала, что ее отставка с должности судьи и лишение судейского класса является несправедливым, поскольку является результатом выражения ее религиозных взглядов. По словам заявителя, был нарушен принцип, связанный с запретом дискриминации в сфере труда.
Различными фактами, приведенными в процессе рассмотрения дела, было доказано, что Г. Питкевич оказывала давление на стороны в судебных процессах, ставила интересы Церкви выше государственных интересов правосудия. В результате беспристрастность заявителя была поставлена под сомнение, чем был ослаблен авторитет правосудия.
Рассмотренные факты позволили Европейскому Суду указать, что основания, приведенные властями Российской Федерации, были «достаточными» для вмешательства в право заявителя, предусмотренное ст. 10 Конвенции (право свободно выражать свои взгляды, нарушение которого связывалось заявителем с дискриминационным основанием отстранения ее от должности судьи). Таким образом, лишение заявителя полномочий судьи было адекватно преследуемым законным целям.
Таким образом, лишение заявителя полномочий судьи было адекватно преследуемым законным целям.
Конституционный Суд РФ также во многих решениях указывал, что профессиональные интересы не должны идти вразрез с интересами государства или общества. Например, при регламентации права на забастовку должно осуществляться необходимое согласование между защитой профессиональных интересов и соблюдением общественных интересов, которым она способна причинить ущерб и обеспечение которых – обязанность государства.
В связи с этим запрет на участие в забастовках некоторых категорий работников, осуществляющих жизненно необходимую деятельность, вполне соответствует конституционным принципам (см.: Постановление Конституционного суда РФ от 17 мая 1995 г. № 5-п «По делу о проверке конституционности статьи 12 Закона СССР от 3 октября 1989 г. «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов) в части, запрещающей проведение забастовок работниками гражданской авиации, в связи с жалобой профсоюза летного состава Российской Федерации»).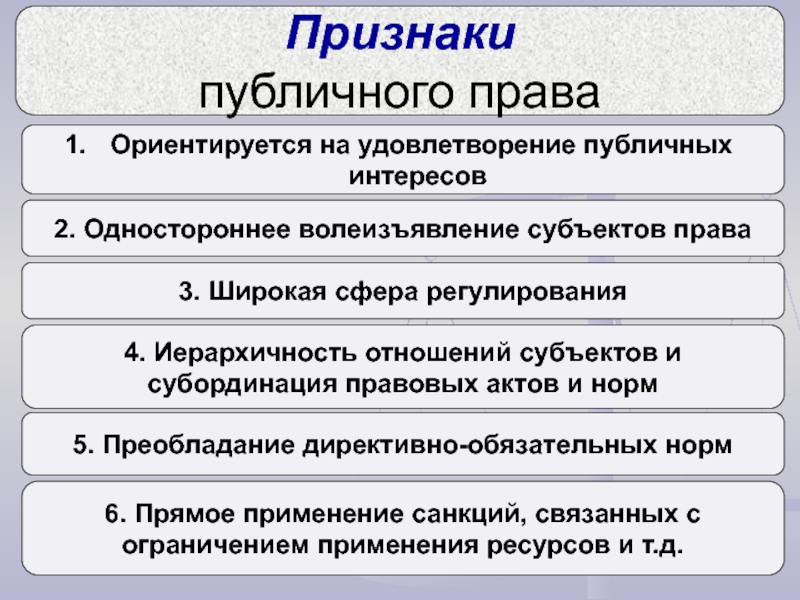
Таким образом, реализация конституционных принципов правового регулирования труда основана на частно-публичном характере данной сферы правового регулирования. Конституционные принципы призваны определить пределы государственно-властного вмешательства в процесс правового урегулирования частных взаимоотношений между работником и работодателем. Современной задачей законодателя является более четкое определение баланса государственных и частных интересов в сфере труда.
Литература
1. Алексеев, С. С. Право: азбука – теория
– философия. Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. -712 с.
2. Васькина, Ю. В. Государство как субъект реализации трудовых отношений / Ю. В. Васькина // Социологические исследования.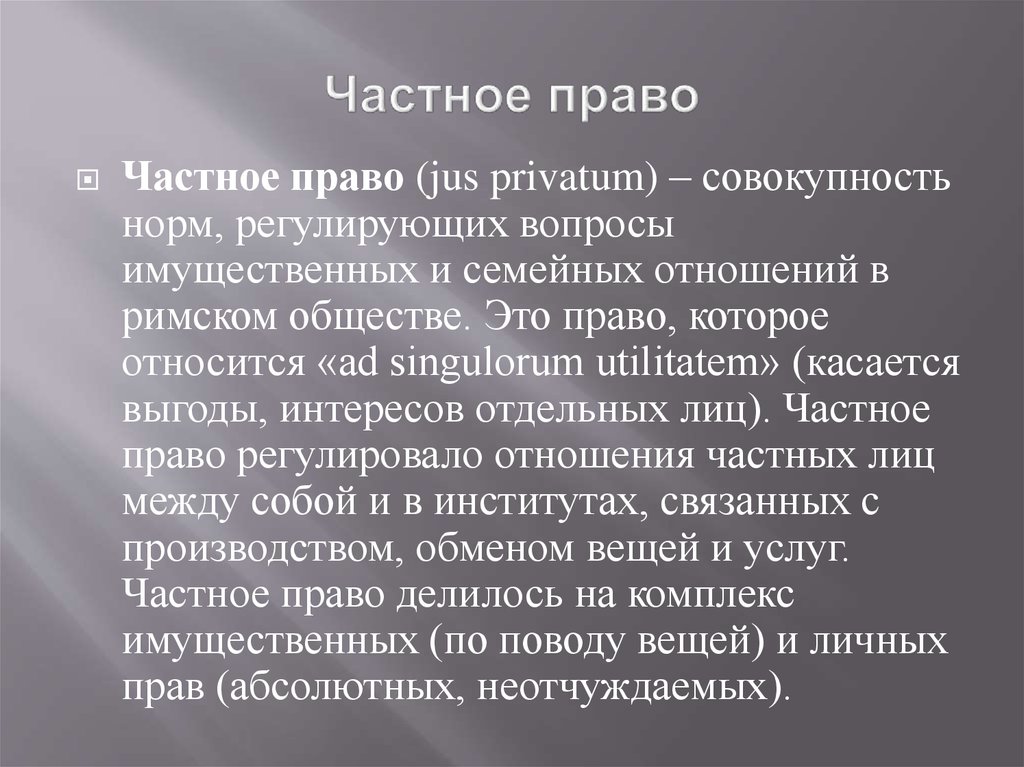 – 2001. – № 7. – С. 68-73.
– 2001. – № 7. – С. 68-73.
3. Ген, Н. Л. Специфика конституционных норм и особенности их реализации / Н. Л. Ген // Журнал российского права. -2001.
– № 11. – С. 53-59.
4. Головина, С. Ю. Реализация принципов трудового права при применении норм Трудового кодекса Российской Федерации / С. Ю. Головина // Материалы научно-практической конференции, посвященной 10-летию Конституции Российской Федерации. -Челябинск, 2003. – Ч. I. – С. 17-20.
5. Петров, А. Ю. Механизм реализации и защиты публичных прав и свобод в региональном административном процессе / А. Ю. Петров // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». – 2006. – № 13 (68). – С. 323-325.
6. Пряхина, Т. М. Понятие конституционности и реализация Основного Закона / Т.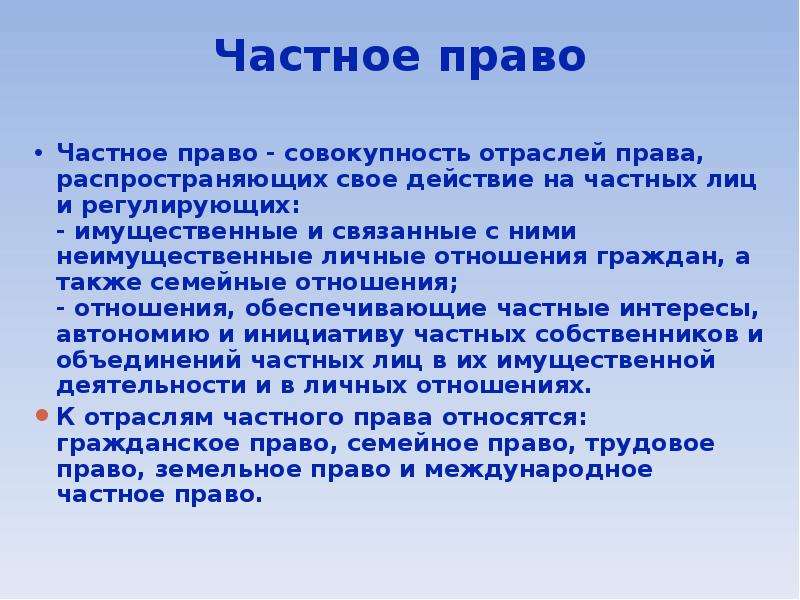 М. Пряхина // Реализация Конституции
М. Пряхина // Реализация Конституции
Сагандыков М. С.
Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конститутционных…
России: межвуз. науч. сб. – Саратов, 1994. -С. 62-69.
7. Теория государства и права / отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. – М.: ИНФРА-М-Норма, 1997. – 570 с.
8. Трудовое право России: учебник / под
общ. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова. – М.: ООО «Юрайт-Издат», 2008. – 672 с.
9. Штринева, Т. И. Современные принципы трудового права: автореферат дис. … канд. юрид. наук / Т. И. Штринева. – СПб., 2001. -25 с.
Сагандыков Михаил Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и социального права, Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск. E-mail: [email protected].
Челябинск. E-mail: [email protected].
Статья поступила в редакцию 29 февраля 2016 г.
DOI: 10.14529/law160218
THE COMBINATION OF PRIVATE AND PUBLIC LAW PRINCIPLES IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATIO N OF CONSTITUTIONAL PR INCIPLES IN THE LABOUR FIELD
M. S. Sagandykov
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
The article considers the problems connected with realization of constitutional principles of regulation of labor relations. The specific features of realization are caused by a private-public nature of the labour field and the combination of public and private interests in the relationship between an employer and an employee. It is necessary in every constitutional principle to single out private and public law aspects.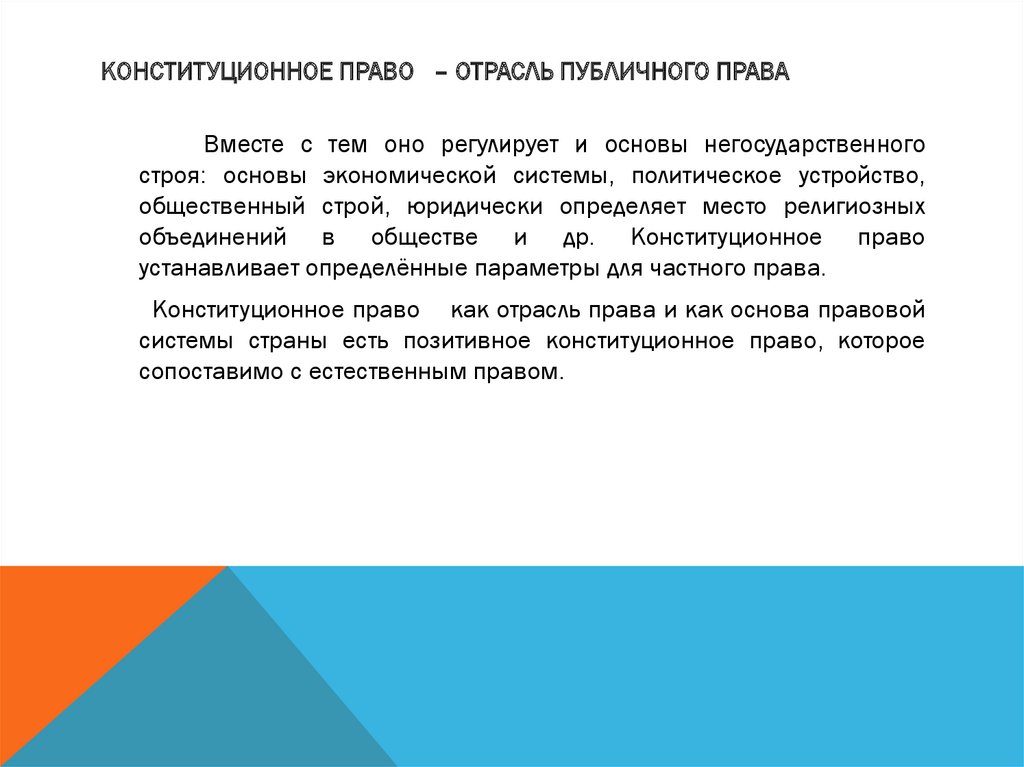 It is emphasized that constitutional principles of the labour regulation should not be divided into the realized ones through public or private rules of law. The content of the same constitutional principle enables one to realize it both in private and public relations through mandatory and dispositive rules of the labor law.
It is emphasized that constitutional principles of the labour regulation should not be divided into the realized ones through public or private rules of law. The content of the same constitutional principle enables one to realize it both in private and public relations through mandatory and dispositive rules of the labor law.
The constitutional principles help to define the limits of state intervention in the process of legal regulation of private relations between employees and employers. Today the legislator has to give a clear definition of the balance of public and private interests in the labour sphere.
Keywords: constitutional principles, realization of the principles of law, labor relations, private law, public law.
References
1. Alekseev S. S. Pravo: azbuka – teoriya – filosofiya. Opyt kompleksnogo issledovaniya [Law: ABC – theory – Philosophy. The experience of complex study]. Moscow, 1999, 712 p.
Opyt kompleksnogo issledovaniya [Law: ABC – theory – Philosophy. The experience of complex study]. Moscow, 1999, 712 p.
2. Vas’kina Yu. V. [The state as a subject of the implementation of labor relations]. Sotsiologi-cheskie issledovaniya [Sociological studies], 2001, no 7, pp. 68-73. (in Russ.)
3. Gen N. L. [The specifics of the constitutional norms and the peculiarities of their realization]. Zhurnal rossiyskogo prava [Magazine of the Russian law], 2001, no 11, pp. 53-59. (in Russ.)
4. Golovina S. Yu. Realizatsiya printsipov trudovogo prava pri primenenii norm Trudovogo ko-deksa Rossiyskoy Federatsii [Implementation of the principles of labor law in the application of the Labour Code of the Russian Federation]. Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyash-chennoy 10-letiyu Konstitutsii Rossiyskoy Federatsii [Proceedings of the scientific-practical conference dedicated to the 10th anniversary of the Russian Constitution]. Chelyabinsk, 2003, part I, pp. 17-20. (in Russ.)
Chelyabinsk, 2003, part I, pp. 17-20. (in Russ.)
5. Petrov A. Yu. [The mechanism of realization and protection of public rights and freedoms in the regional administrative process]. Vestnik Yuzhno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Se-riya “Pravo” [Bulletin of the South Ural State University. Series Law], 2006, no 13 (68), pp. 323325. (in Russ.)
6. Pryakhina T. M. Ponyatie konstitutsionnosti i realizatsiya Osnovnogo Zakona [The concept of constitutionality and the implementation of the Basic Law]. Realizatsiya Konstitutsii Rossii: Mezh-vuz. nauch. sb. [Implementation of the Constitution of Russia: Interuniversity collection of scientific] . Saratov, 1994, pp. 62-69. (in Russ.)
7. Korel’skiy V. M., Perevalov V. D. Teoriya gosudarstva i prava [Theory of State and Law]. Moscow, 1997, 570 p.
8. Khokhlov E. B., Safonov V. A. Trudovoe pravo Rossii: uchebnik dlya vuzov [Labor Law of Russia: Textbook for Universities]. Moscow, 2008, 672 p.
Khokhlov E. B., Safonov V. A. Trudovoe pravo Rossii: uchebnik dlya vuzov [Labor Law of Russia: Textbook for Universities]. Moscow, 2008, 672 p.
9. Shtrineva T. I. Sovremennye printsipy trudovogo prava: avtoref. diss. … kand. yurid. nauk [Modern principles of labor law. Author’s abstract Diss. Kand. (Law)]. St. Petersburg, 2001, 25 p.
Mikhail Sergeevich Sagandykov – Candidate of Sciences (Law), associate professor, Department of Labour and Social Law, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation. Email: [email protected].
Received 29 February 2016.
ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ
FOR CITATION
Сагандыков, М. С. Сочетание частноправовых и публично-правовых начал в процессе реализации конституционных принципов в сфере труда / М. 160218.
160218.
SAGANDYKOV M. S. The combination of private and public law principles in the process of implementation of constitutional principles in the labour field. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Law, 2016, vol. 16, no. 2, pp. 109-114. (in Russ.) DOI: 10.14529/law160218.
Частное и публичное право – это… Что такое Частное и публичное право?
Частное право — собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие частные интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие от публичного права, которое регулирует и охраняет общие интересы. Ядро частного права составляет гражданское право, регулирующее имущественные, связанные с ними неимущественные отношения, а также торговое право (в тех странах, где действует торговое право). Частное право — это совокупность отраслей — часть системы действующего права.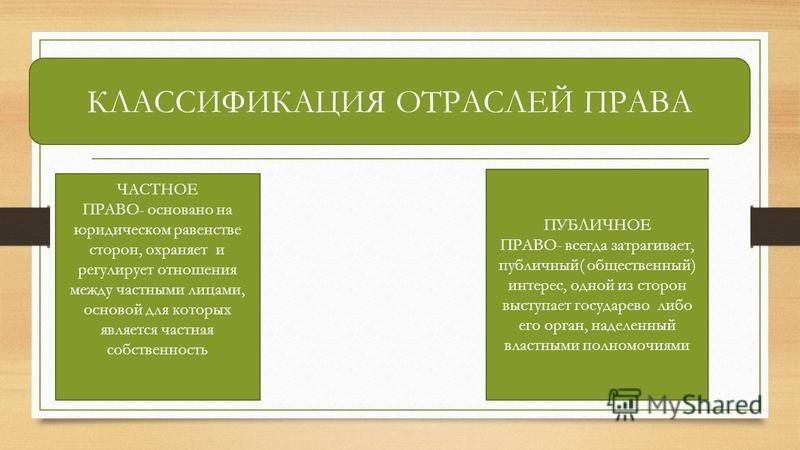 Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами, коллективами людей(предприятиями, фирмами и пр.) Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков. Во-первых, они складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно. Во-вторых, частноправовые отношения основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон. В-третьих, частноправовые отношения имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им.
Частное право регулирует имущественные и личные неимущественные отношения между гражданами, коллективами людей(предприятиями, фирмами и пр.) Частноправовые отношения имеют набор определенных признаков. Во-первых, они складываются по воле самих участников, совершаемые ими двухсторонние действия (например договоры купли-продажи) приобретают юридическую силу, если осуществляются добровольно. Во-вторых, частноправовые отношения основаны на юридическом равенстве участников — равноправии сторон. В-третьих, частноправовые отношения имеют горизонтальный характер, то есть непосредственно не связаны с органами государственной власти и подчинением им.
История развития
Вне зависимости от того, какие признаки кладутся авторами в содержание понятия частного права, его объём рассматривается большинством из них как практически неизменный или, по крайней мере, неизменно включающий отдельные постоянные элементы, с той или иной степенью дискуссионности отнесения к объёму данного понятия других элементов.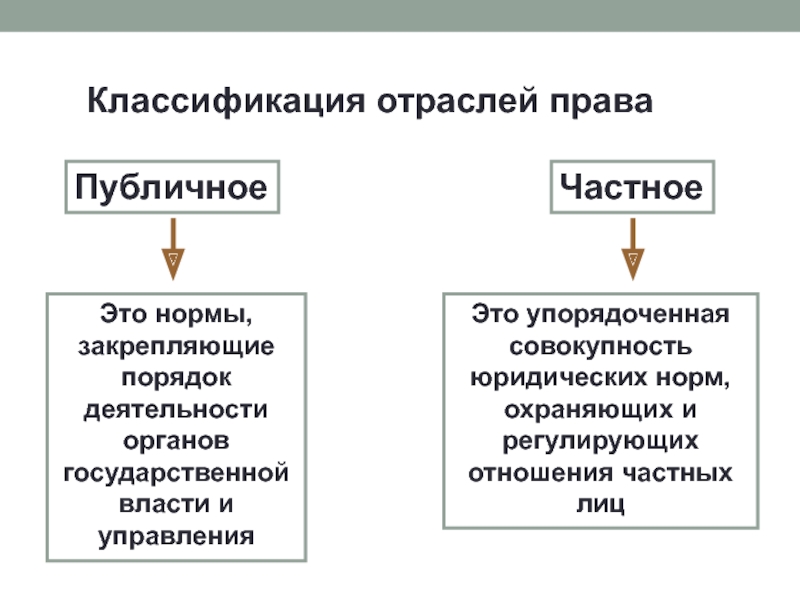
Так, с древнейших времен и, что совершенно определенно, с эпохи Древнего Рима (см. также Частное право в эпоху античности), объём понятия «частного права» включал в себя такие элементы, как нормы, регулирующие статус лиц и семейные отношения, вещные и наследственные отношения, обязательственные отношения[1].
С выделением в Средние века (см. также Частное право в Средние века и эпоху Возрождения) купечества в отдельное сословие и расширением международной торговли сформировалась особая подсистема частного права — торговые обычаи, которые «были искусственно привязаны к римскому праву в результате творчества постглоссаторов»[2] и впоследствии преобразованы в нормы, регламентирующие торговые отношения.
С изобретением к исходу Средних веков книгопечатания и развитием в указанный период и позднее машинного производства возникли условия для широкого тиражирования произведений литературы и некоторых видов искусства, а также изобретений и товарных обозначений[3]; данные обстоятельства обусловили возникновение совокупности норм, регулирующих основания возникновения и порядок осуществления относящихся к сфере частного права исключительных прав на результаты творческой деятельности, получившей наименование «права интеллектуальной собственности».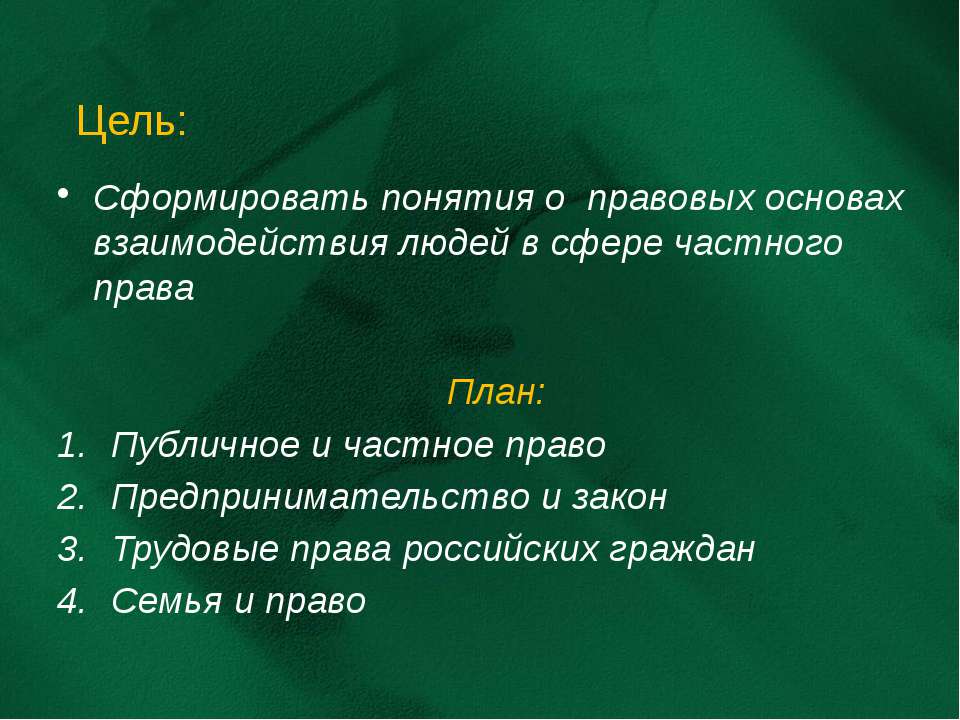
С разрушением цеховой организации производства и формированием в Новое время свободного рынка труда, функционирующего на основе взаимодействия спроса и предложения, отношения работника и работодателя превращаются в обыкновенную сделку (договор найма)[4], частноправовую природу которой не изменило даже активное вмешательство государства в регулирование условий труда. На рубеже XIX—XX вв. (см. также ст. Частное право в эпоху Нового времени) доктриной и законодательством к сфере частного права были отнесены личные неимущественные права и нематериальные блага, принадлежащие человеку от рождения или в силу закона, неотчуждаемые и не передаваемые иным способом [в том числе провозглашаемые и охраняемые таким важнейшим документом публичного права, как конституция, что объясняется необходимостью оградить данные абсолютные по своей природе права не столько «от всякого и каждого» (хотя именно таким образом они и подлежат защите), сколько именно от государства, которое чаще каких-либо иных субъектов стремится к их нарушению[5].
К частному праву относятся, наконец, сложившиеся за столетия развития разнообразных международных контактов нормы, регулирующие все выше перечисленные отношения, осложненные иностранным элементом.
Содержание понятия
Объём всякого понятия, представляющего собой какой-либо элемент системы позитивного права (подсистема, отрасль, подотрасль, институт, субинститут и т. д.), в конечном счете в качестве «элементарных частиц» должен содержать единичные правовые нормы в том или ином наборе. Между тем построение на основе определенной совокупности норм какого-либо понятия предполагает выделение некоторого общего для всех рассматриваемых норм признака, который составит содержание конструируемого понятия. Поиск такого признака и составляет существо задачи выявления критерия разграничения частного и публичного права и определения понятия «ч. п.».
Использование ни одного из известных общей теории права критериев классификации правовых норм, относящихся к собственным характеристикам норм как регулятивных средств (включая характер обязательности для субъектов права, на основе которого разграничиваются императивные и диспозитивные нормы), не позволяет выявить достоверный критерий разграничения частного и публичного права.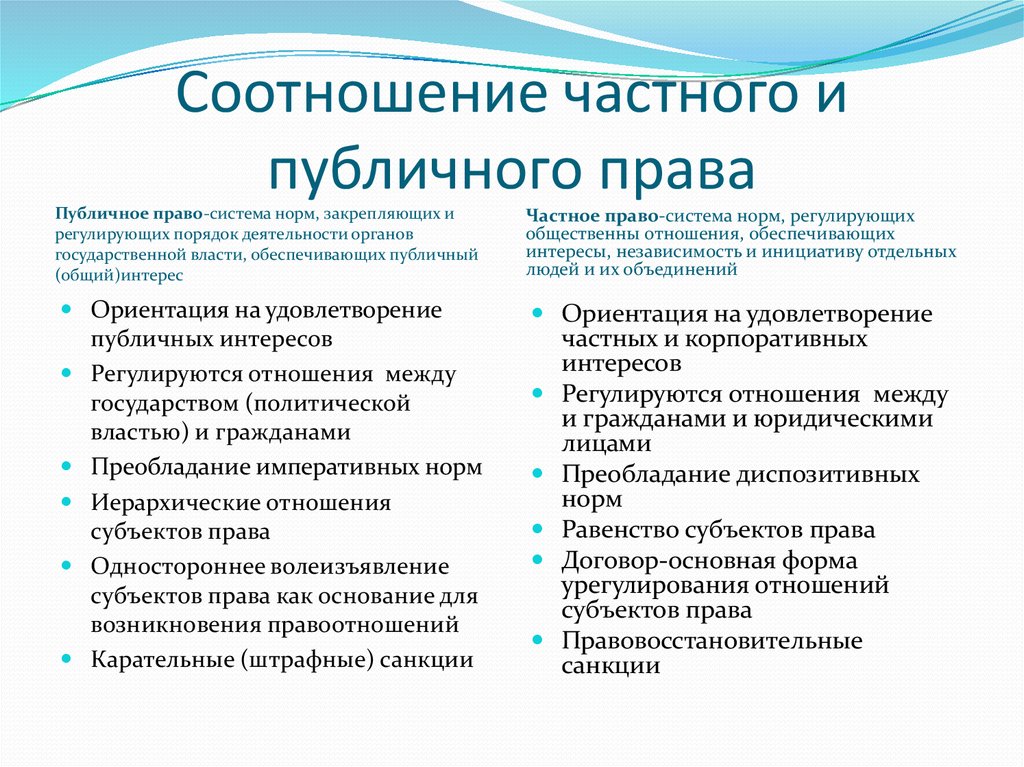 Поэтому необходимо обратиться к признакам норм, внешним по отношению к их регулятивной функции. На основе изучения истории посвященных ч. п. элементов правовых учений классиков юридической мысли и истории позитивного ч. п. следует в качестве такого признака предложить отношения, регулируемые рассматриваемыми нормами.
Поэтому необходимо обратиться к признакам норм, внешним по отношению к их регулятивной функции. На основе изучения истории посвященных ч. п. элементов правовых учений классиков юридической мысли и истории позитивного ч. п. следует в качестве такого признака предложить отношения, регулируемые рассматриваемыми нормами.
Таким образом, вместо формирования содержания понятия «ч. п.» необходимо сформировать содержание понятия «частные правоотношения»; тогда содержание понятия «ч. п.» будет определяться совокупностью норм, регулирующих частные правоотношения. Данный тезис предполагает первичность общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, по сравнению с правовыми нормами: последние возникают именно как средство регулирования известных отношений; данный тезис в большей степени верен применительно именно к частным отношениям, которые «существуют в обществе вне прямой зависимости от их регулирования нормами права», и в меньшей степени — применительно к публичным, ибо на заре государства последние действительно возникали спонтанно и лишь по мере развития общества подвергались все более скрупулезному правовому регулированию, тогда как в условиях современного правового государства публичные отношения «могут выступать только как правоотношения» [Теория государства и права: Основы марксистско-ленинского учения о государстве и праве / Под ред. П. С. Ромашкина, М. С. Строговича, В. А. Туманова. М., 1962. С. 508—509].
П. С. Ромашкина, М. С. Строговича, В. А. Туманова. М., 1962. С. 508—509].
Выявление критерия отграничения частных правоотношений от всех иных правоотношений требует анализа различных элементов и характеристик правоотношений. С учетом такого анализа единственным общим свойством всех частных отношений, которое и оправдывает применение к ним характеристики «частные», являются общественной практикой человеческой цивилизации обусловленные допустимость, возможность, желательность, а подчас — необходимость их возникновения, изменения и прекращения, а также определения юридического содержания (прав и обязанностей сторон) преимущественно по воле их участников, то есть с исключением произвольного вмешательства каких-либо иных лиц, в том числе и в первую очередь — публичной власти. Действительно, гражданам (а где позволяет существо отношения — также их объединениям) может и должно быть «доверено» приобретать и использовать имущество, торговать, выполнять работы и оказывать услуги, создавать и использовать произведения литературы и искусства и изобретения, завещать и наследовать имущество, вступать в брак и воспитывать детей, наниматься на работу и предоставлять таковую своей волей и в своем интересе, всякий раз самостоятельно определяя условия осуществления таких действий.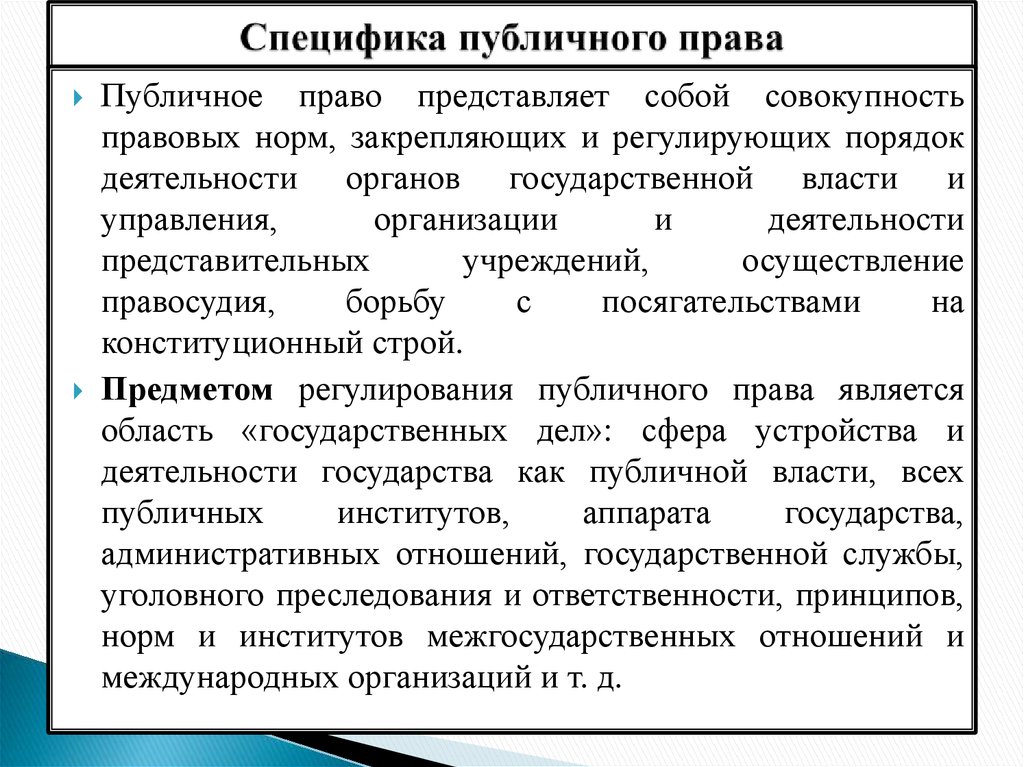 Попытки организации регулирования такого рода отношений на иных началах, допускающих или предполагающих возможность или обязательность подчинения поведения участников таких отношений воле не участвующего в них лица, как показывает история, или оказывались бесплодными, или становились причиной наступления столь плачевных последствий в регулируемой сфере, что их социальный вред многократно «перекрывал» те преимущества, на достижение которых было направлено такого рода вмешательство. Указанное свойство частных отношений обусловливается тем, что в них — и эту характеристику следует рассматривать в качестве важнейшего критерия разграничения частных и публичных отношений, положив её в основу определений соответствующих понятий, — преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников.
Попытки организации регулирования такого рода отношений на иных началах, допускающих или предполагающих возможность или обязательность подчинения поведения участников таких отношений воле не участвующего в них лица, как показывает история, или оказывались бесплодными, или становились причиной наступления столь плачевных последствий в регулируемой сфере, что их социальный вред многократно «перекрывал» те преимущества, на достижение которых было направлено такого рода вмешательство. Указанное свойство частных отношений обусловливается тем, что в них — и эту характеристику следует рассматривать в качестве важнейшего критерия разграничения частных и публичных отношений, положив её в основу определений соответствующих понятий, — преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников.
Отношения же в области государственного управления, охраны общественного порядка, властного разрешения споров, обороны и обеспечения общественной безопасности, обеспечения имущественной основы указанных сфер строить на основе свободного усмотрения сторон недопустимо. Данная область исключает как добровольность (по меньшей мере для одной из сторон правоотношения) вступления в отношение, так и возможность свободного определения его содержания; такие правоотношения предполагают одностороннее властное воздействие одного из участников отношения на другого, что обусловливает возможность злоупотребления со стороны управомоченного лица и, как следствие, необходимость скрупулезной законодательной регламентации всех мыслимых нюансов развития отношений с исчерпывающим определением прав и обязанностей обеих сторон, ибо в публичных отношениях реализуется (в отдельных случаях — наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) публичный интерес, определенный Ю. А. Тихомировым как «признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит гарантией её существования и развития» [Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 55]. К. Ю. Тотьев счел необходимым в дефиниции публичного интереса раскрыть обе составляющие рассматриваемого понятия, определяя последнее как «жизненно необходимое состояние больших социальных групп (включая общество в целом), обязанность по реализации (достижению, сохранению и развитию) которого лежит на государстве» [Тотьев К.
Данная область исключает как добровольность (по меньшей мере для одной из сторон правоотношения) вступления в отношение, так и возможность свободного определения его содержания; такие правоотношения предполагают одностороннее властное воздействие одного из участников отношения на другого, что обусловливает возможность злоупотребления со стороны управомоченного лица и, как следствие, необходимость скрупулезной законодательной регламентации всех мыслимых нюансов развития отношений с исчерпывающим определением прав и обязанностей обеих сторон, ибо в публичных отношениях реализуется (в отдельных случаях — наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) публичный интерес, определенный Ю. А. Тихомировым как «признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетворение которого служит гарантией её существования и развития» [Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 55]. К. Ю. Тотьев счел необходимым в дефиниции публичного интереса раскрыть обе составляющие рассматриваемого понятия, определяя последнее как «жизненно необходимое состояние больших социальных групп (включая общество в целом), обязанность по реализации (достижению, сохранению и развитию) которого лежит на государстве» [Тотьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 25], и не связывая при этом публичный интерес с правом.
Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 25], и не связывая при этом публичный интерес с правом.
Критерий интереса (как исторически первый, выработанный юридической наукой) в принципе был объектом критики, в том числе обоснованной. Однако критика критерия интереса относилась, как правило, к такой его трактовке, согласно которой «публичное право служит общему благу, гражданское — частным интересам» [Муромцев С. А. Определение и основное разделение права // Избранные труды по римскому и гражданскому праву. М., 2004. С. 685]. При такой трактовке критерий интереса действительно уязвим, ибо право в целом и все его элементы призваны служить достижению баланса частных и публичных интересов, что отмечается и теоретиками права [см., напр.: Бержель Ж.-Л. Общая теория права. М., 2000. С. 66-77], и правоприменительными органами [см.: Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на правосудие: Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1999 г. № С1-7/СМП-1341 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 2. С. 94-95], включая Европейский суд по правам человека. Между тем отмеченная уязвимость критерия интереса исчезает, если интерес рассматривать в качестве критерия разграничения не подсистем права, а регулируемых им областей общественных отношений. Положению о том, что ч. п. следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников, тогда как публичным правом следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых (в том числе наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) реализуется интерес общества в целом, нельзя противопоставить ни тезис о балансе интересов, ибо реализация в частном отношении частного интереса не противоречит требованию соблюдения баланса интересов ч. п., которое при регулировании частных отношений может, а зачастую — даже должно отступить от защиты частного интереса в пользу публичного, ни часто используемый пример о казенных поставках и подрядах, ибо публичный интерес в данном случае реализуется (или не реализуется) до возникновения подрядного отношения (на стадии принятия публичным субъектом решения о вступлении в такое отношение) и после его реализации (на стадии использования публичным субъектом результата реализации частного отношения), при этом отношения, возникающие на обеих стадиях регулируются именно публичным правом.
№ С1-7/СМП-1341 // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2000. № 2. С. 94-95], включая Европейский суд по правам человека. Между тем отмеченная уязвимость критерия интереса исчезает, если интерес рассматривать в качестве критерия разграничения не подсистем права, а регулируемых им областей общественных отношений. Положению о том, что ч. п. следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых преимущественно реализуются индивидуальные интересы их участников, тогда как публичным правом следует называть систему правовых норм, регулирующих отношения, в которых (в том числе наряду с индивидуальными интересами одного или нескольких его участников) реализуется интерес общества в целом, нельзя противопоставить ни тезис о балансе интересов, ибо реализация в частном отношении частного интереса не противоречит требованию соблюдения баланса интересов ч. п., которое при регулировании частных отношений может, а зачастую — даже должно отступить от защиты частного интереса в пользу публичного, ни часто используемый пример о казенных поставках и подрядах, ибо публичный интерес в данном случае реализуется (или не реализуется) до возникновения подрядного отношения (на стадии принятия публичным субъектом решения о вступлении в такое отношение) и после его реализации (на стадии использования публичным субъектом результата реализации частного отношения), при этом отношения, возникающие на обеих стадиях регулируются именно публичным правом.
Важнейшим формальным признаком публичного правоотношения, не образующим вместе с тем существа феномена, является участие в нём хотя бы на одной из сторон такого субъекта, который действует в данном отношении в качестве агента публичной власти — носителя публичной функции. [Субъект, который действует в данном отношении в качестве агента публичной власти — носителя публичной функции, будет для краткости именоваться «публичным субъектом», а субъект, не обладающий указанными признаками, — «частным субъектом». Данная терминология позаимствована в монографии Д. В. Винницкого «Субъекты налогового права» (М., 2001. С. 67-72)]. Такими субъектами могут быть государство или муниципальное образование как целое, государственный или муниципальный орган, должностное лицо, а также специфический субъект, наделенный в силу закона в установленных обстоятельствах особыми публичными функциями. Так, поскольку «уплата налогов налогоплательщиками — юридическими лицами, по действующему налоговому законодательству, осуществляется преимущественно путем сдачи соответствующим банкам платежных поручений на перечисление налогов в бюджет», Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «налоговое законодательство устанавливает публично-правовые обязанности банков в их отношениях с налогоплательщиками — юридическими лицами», а «государство … осуществляет контроль за порядком исполнения банками указанных публично-правовых функций» (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г. № 24-П по делу о проверке конституционности п. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 42. Ст. 5211). В публичном же качестве «контрольно-ревизионной (надзорной) организации по уполномочию государства», как установил Конституционный Суд Российской Федерации, действует и аудиторская организация при осуществлении обязательной аудиторской проверки, ибо «хотя выбор аудиторской организации и оплата оказываемых ею услуг … опосредуются частно-правовой формой, по своим целям, предназначению и функциям обязательный аудит проводится … в общественном интересе» (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2003 г. № 4-П по делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 15. Ст. 1416). В качестве агента публичной власти действует и нотариус, занимающийся частной практикой, ибо, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, «осуществление нотариальных функций от имени государства предопределяет публично-правовой статус нотариусов», включая «нотариусов, занимающихся частной практикой и в качестве таковых принадлежащих к лицам свободной профессии» (постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 мая 1998 г. № 15-П по делу о проверке конституционности отдельных положений ст. 2, 12, 17, 24 и 34 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате: // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22. Ст. 2491). Отсутствие указанного формального признака (участие субъекта, действующего в данном отношении в качестве носителя публичной функции) в общественном отношении свидетельствует о его принадлежности к частным отношениям.
Использование предложенного критерия определения содержания понятия «частные правоотношения» — допустимость/желательность возникновения, определения юридического содержания, изменения и прекращения правоотношений по воле их участников, обусловленная реализацией в отношении частных интересов его участников, — является известной идеализацией рассматриваемых явлений. Однако в сфере общественных наук любые классификации неизбежно предполагают абстрагирование от некоторых особенностей изучаемых феноменов, а формулируемые закономерности отличаются вероятностным характером.
Так, и среди частноправовых отношений существуют такие, которые допустимо оставлять на усмотрение или взаимное согласие их участников лишь с оговорками или в известных, подчас весьма узких, пределах (например, деликтные, в принципе составляющие, впрочем, скорее патологию нежели норму общественных отношений), — именно такие отношения требуют сочетания диспозитивного и императивного регулирования. При этом, если в рамках подхода к определению рассматриваемых явлений непосредственно через ч. п. императивное регулирование рассматривается как внедрение публично-правовых начал в частноправовую сферу, что и дает повод некоторым авторам отстаивать тезис о бессмысленности разделения права на частное и публичное [см., напр.: Дедов Д. И. Соразмерность ограничения свободы предпринимательства. М., 2002. С. 122—147; Мальцев Г. В. Частные и публичные начала в общественной и правовой жизни: научная доктрина и практика // Гражданское и торговое право зарубежных стран. М., 2004. С. 718—759], то в рамках подхода к выявлению специфики ч. п. через регулируемые им отношения использование императивного метода регулирования частноправовых отношений нисколько не умаляет их частноправовой природы; так, императивное требование гражданского закона к форме сделок, с одной стороны, не порождает никакого особого правоотношения между участниками сделки и государством, и с другой стороны, не сообщает — само по себе — сделке (оплоту ч. п.!) никаких публично-правовых свойств. В связи с изложенным представляется некорректным именовать явление регулирования частных отношений с применением императивного метода «публицизацией» ч. п., что часто имеет место в литературе [см., напр.: Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М., 2003. С. 219—220]; равным образом, представляется некорректным именовать «приватизацией» публичного права использование диспозитивного метода для регулирования публичных отношений [см., напр.: Бойцова В. В. Правовые средства защиты в публичном праве Великобритании // Правоведение. 1994. № 3. С. 64-65].
Критерий разграничения частного и публичного права следует искать в плоскости предмета правового регулирования, то есть общественных отношений, подвергающихся регулирующему воздействию со стороны права; таким критерием является характер интереса, преимущественно реализуемого участниками в соответствующем правоотношении (изложенный подход следует отличать от попытки разграничить частное и публичное право по линии интереса, защищаемого той или иной подсистемой права, ибо право как социальный институт призвано выражать коренные интересы всего общества в целом). При любом характере правового регулирования в обществе можно выявить частные отношения, с одной стороны, и публичные — с другой, объективно требующие воздействия соответствующими им правовыми методами, однако далеко не в любом обществе этому разграничению в теории и (или) на практике придается должное значение. Степень соответствия методов, используемых для правового регулирования тех или иных отношений, их существу, позволяет оценивать рассматриваемый правопорядок в целом с точки зрения адекватности воздействия на общественные отношения.
Вместе с тем отсутствуют «частноправовой» и «публично-правовой» методы правового регулирования. Корректно говорить лишь о преимущественном использовании диспозитивного регулирования частных отношений и императивного воздействия на отношения публичные, что не исключает в отдельных случаях вполне оправданного применения императивных норм для регулирования частных отношений (ибо в силу ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы могут быть ограничены законом в той мере, в какой это необходимо в конституционно значимых целях) и диспозитивных — для публичных; однако в таком случае не имеет место «публицизация» ч. п. или «приватизация» публичного, что часто можно встретить в научной и учебной литературе. «Публицизация» или «приватизация» могут иметь место лишь в рамках системы права в целом, выражаясь не в переводе тех или иных отношений из частных в публичные (что вряд ли возможно) или наоборот, а в создании дополнительных императивных норм и — в целях контроля за их реализацией — дополнительных публичных институтов и процедур («публицизация»), либо их упразднении («приватизация»).
Важным аспектом дифференциации частного и публичного права является институционализация их основных идей, начал и принципов в нормах, содержащихся в весьма существенной части в отраслевых кодифицированных законодательных актах, имеющих приоритет перед нормами соответствующих отраслей, включенными в акты текущего законодательства.
Институционализация обеих подсистем права заключается также в дифференциации процессуальных форм разрешения споров, возникающих в рамках отношений, регулируемых различными подсистемами права.
Развитие государственного управления в XX в. показало, что процессы усиления и расширения непосредственного государственного воздействия на частные отношения, несмотря на периодические колебания, имеют стойкую тенденцию ко все большему усложнению, что и является причиной развития и усложнения публичного права, ибо постоянно усложняется сама жизнь.
См. также
Примечания
- ↑ Всеобщая история государства и права: В 2 т. — М., 2002. — Т. 1: Древний мир. Средние века. — С. 260.
- ↑ Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: Пер. с фр. В. А. Туманова. — М.: Междунар. отношения, 1999. — С. 64. — ISBN 57133-0997-5
- ↑ Гражданское право: В 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М., 1998. — Т. 1. — С. 632.
- ↑ Курс российского трудового права: В 3 т. / Под ред. Е. Б. Хохлова. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996. — Т. 1: Часть Общая. — С. 29-30. — ISBN 5-288-01678-X
- ↑ Агарков М. М. Ценность частного права // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. — Т. 1. — С. 83-84.
Литература
- Агарков М. М. Ценность частного права // Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 1. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2002. — С. 42-104. http://www.lawportal.ru/article/article.asp?articleID=178208
- Алексеев С. С. Не просто право — частное право // Известия. — 1991. — 19 окт.
- Алексеев С. С. Частное право: Научно-публицистический очерк. М.: Статут, 1999. — 160 с.
- Асланян Н. П. Основные начала Российского частного права: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 2002. — 50 с. http://www.lawportal.ru/book/book.asp?bookID=105401
- Васильев О. Д. Проблема разделения права на публичное и частное в русской позитивистской теории права в конце XIX — начале XX вв.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 1999. — 39 с.
- Васильев С. В. Частное и публичное право в России: историко-теоретический анализ: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — СПб., 2002. — 35 с.
- Громов С. А. Соотношение частного и публичного права в российской системе права: тенденции дифференциации и интеграции: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — СПб., 2004. — 24 с.
- Дарвина А. Р. Частное право в системе российского права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Саратов, 2003. — 30 с.
- Дорохин С. В. Деление права на публичное и частное: Конституционно-правовой аспект: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
- Кирилов В. А. Предмет частного права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М ., 2001. — 25 с.
- Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании предпринимательской деятельности. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2001. — 212 с.
- Мальцев Г. В. Частные и публичные начала в общественной и правовой жизни: научная доктрина и практика // Гражданское и торговое право зарубежных стран. — М.: МЦФЭР, 2004. — С. 718—759.
- Маштаков К. М. Теоретические вопросы разграничения публичного и частного права: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Волгоград, 2001. — 25 с.
- Муромцев С. А. Определение и основное разделение права // Избранные труды по римскому и гражданскому праву. — М.: Центр ЮрИнфоР, 2004. — С. 504—740.
- Нестерова Э. Э. Историко-теоретические основания учения о разделении права на публичное и частное в западноевропейской и российской правовой науке: Автореф. дис. … к.ю.н. Н. Новгород, 2002. — 23 с.
- Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. — М.: Статут, 1998. — 353 с. http://civil.consultant.ru/elib/books/23/page_4.html#4
- Попондопуло В. Ф. Частное и публичное право как отрасли права // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. — М.: Статут; Екатеринбург: Ин-т част. права, 2002. — С. 17-40.
- Публичное и частное право: проблемы развития и взаимодействия, законодательного выражения и юридической практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (23-24 апреля 1998 года) / Отв. ред. проф. В. Д. Перевалов. — Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 1999. — 336 с.
- Разуваев Н. В. Правовая система и критерии отраслевой дифференциации права // Правоведение. — 2002. — № 3. — С. 31-55. http://www.lawportal.ru/article/article.asp?articleID=180811
- Тихомиров Ю. А. Публичное право. — М.: БЕК, 1995. — 485 с. http://www.kursach.com/biblio/0010028/000.htm
- Тотьев К. Ю. Публичный интерес в правовой доктрине и законодательстве // Государство и право. 2002. № 9. С. 25
- Черепахин Б. Б. К вопросу о частном и публичном праве // Труды по гражданскому праву. — М.: Статут, 2001. — С. 93-120. http://civil.consultant.ru/elib/books/22/page_10.html#5
- Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. — Свердловск, 1972. — 210 с.
1. Трудовое право – это отрасль российского права, которое относится к: Частному праву И
Частному правуИ частному, и публичному праву, в зависимости от ситуации
Публичному праву
2. Трудовое право регулирует отношения, возникающие между работниками и работодателями в связи с трудовой деятельностью. Также оно регулирует отношения:
имущественные и личные неимущественные отношения
в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичных функций
по обеспечению занятости и трудоустройства, по охране труда и здоровья работников
3. Источниками трудового права являются:
Всё перечисленное
Конституция РФ
Трудовой Кодекс РФ, другие нормативные акты, а также трудовые акты, принятые работодателем
4. Трудовое право основано на следующих принципах:
Кто не работает, тот не ест
От каждого по способностям, каждому по труду
Свобода труда, равные возможности для реализации своих трудовых прав и свобод, обеспечение права на защиту от безработицы
5. Субъектами трудового права являются:
Работники
Все перечисленные
Работодатели
6. Что из перечисленного не является необходимым условием заключения трудового договора:
права и обязанности работника и работодателя
оплата проезда до места работы
режим труда и отдыха работника
условия оплаты труда работника
7. Верны ли следующие суждения об условиях трудового договора:
А. Продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов (40 рабочих часов в неделю).
Б. Ежегодный отпуск должен составлять не менее 30 календарных дней.
верно только Б
верно только А
оба суждения неверны
верны оба суждения
8. В ТК РФ упоминаются такие виды трудовых договоров как:
Возмездные и безвозмездные
Нотариальные и устные
Срочные и бессрочные
Обязательные и необязательные
9. Верно ли данное утверждение:
“Трудовое законодательство предусматривает повышенную охрану труда несовершеннолетних, закрепляя для них ряд льгот: сокращенная рабочая неделя (16–18 лет – 36 часов, до 16 лет – 24 часа в неделю, ежегодный отпуск – 31 день (в любое время года), запрет на использование труда несовершеннолетних на сверхурочных работах, ночных работах и в командировках, запрет на установление испытательного срока).”
утверждение является верным
утверждение не является верным
10. Основным органом разрешения индивидуальных трудовых споров является:
Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Комиссия по трудовым спорам
Комитет Совета Федерации по экономической политике
Международная организация труда
Частное право это
Читать PDF244.69 кб
Этико-правовые знания врачей частнопрактикующей клиники
Мифтахова З. Р., Максимов И. Л.
Читать PDF276.09 кб
Правовая категория частной жизни как объект исследования социальной философии
Ульянченко Александр Михайлович
Рассматривается правовая категория частной жизни в классической социальной философии. Данная категория исследуется в философии экзистенциализма и постмодернизма.
Читать PDF1.08 мб
Проблемы административно-правового регулирования государственно-частного партнерства
Алескеров З. С.
Рассматриваются проблемы развития государственно-частного партнерства как новой для России формы реализации инвестиционных проектов и административно-правового регулирования в этой сфере.
Читать PDF210.70 кб
Международное частное право и Теория отражения: постановка проблемы и обзор литературы
Колобов Роман Юрьевич
Статья посвящена анализу основных положений теории отражения в материалистической философии и социологии.
Читать PDF293.51 кб
Административно-правовое регулирование частной системы здравоохранения в Российской Федерации
Ляпин И.Ф., Прилуков М.Д.
В статье рассматривается административно-правовое регулирование создаваемых юридическими и физическими лицами медицинских организаций, которые образуют частную систему здравоохранения.
Читать PDF179.41 кб
Нормативно-правовое регулирование процедуры открытия частных школ в Украине (Х1Х нач. Хх В. )
Друганова Е. Н.
Данная статья посвящена исследованию нормативно-правовой базы царской России по вопросам урегулирования процедуры открытия частного учебного заведения на Украине в Х1Х нач. ХХ в.
Читать PDF320.79 кб
Правовая политика российского государства в области развития частно-государственного партнерства
Зятьков Антон Евгеньевич
Автором обозначены наиболее важные элементы правовой политики современной России в области развития частно-государственного партнерства, в том числе принципы и цели законотворческой деятельности государства и проблемы правопримене
Читать PDF223.12 кб
Применение интерактивных методов обучения при преподавании частно-правовых дисциплин слушателям инос
Тумаков А.В.
Рассматриваются актуальные методы интерактивного обучения частно-правовым дисциплинам слушателей иностранных государств, применяемые в Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя.
Читать PDF287.71 кб
Сексуальность в частной жизни русской женщины (Х-ХХ вв. ): влияние православного и этакратического г
Пушкарёва Н. Л.
Характеризуя роль и место сексуальности в частной жизни русских женщин, автор считает X-XIX вв. русской истории веками «православного гендерного порядка» и репрессивной сексуальности, а XX в.
Читать PDF1.61 мб
КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА И ГАРМОНИЗАЦИЯ ЧАСТНО-ПРАВОВЫХ И
Шапсугова М. Д.
В статье исследуются модели семьи, модели государственно-семейной политики, и их роль в поиске баланса публичных и частных начал в данной сфере.
Читать PDF3.11 мб
Антрополого-правовой обзор работы Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и го
Эрдынеев Алдар Эдуардович
В статье проводится реферативный обзор основных положений работы Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства», в связи с современными научными взглядами на универсальные нормативные регуляторы повед
ЧАСТНОЕ ПРАВО И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО – РАЗНИЦА И СРАВНЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Жизнь 2021
Частное право применяется к отношениям между людьми в правовой системе. например контракты и трудовое законодательство. Публичное право применяется к отношениям между человеком и государством. наприме
Содержание:
Частное право применяется к отношениям между людьми в правовой системе. например контракты и трудовое законодательство. Публичное право применяется к отношениям между человеком и государством. например уголовное право.
Сравнительная таблица
| Частное право | Публичное право | |
|---|---|---|
| Управляет | Отношения между людьми, такие как Закон о договорах и Закон о правонарушениях. | Отношения между людьми и государством. |
| Подразделения | Гражданское право, трудовое право, коммерческое право, корпоративное право, конкурентное право. | Конституционный, административный и уголовный. |
| Прочие условия | Общее право (в Канаде и большей части США) | Никто |
Определение
Частное право регулирует отношения между людьми, такие как контракты и обязательственное право. В странах, где оно известно как «общее право», оно также включает контракты, заключаемые между правительствами и отдельными лицами.
Публичное право – это закон, регулирующий отношения между отдельными лицами (например, гражданами и компаниями) и государством.
Подразделения
Частное право включает гражданское право (например, договорное право, деликтное право и право собственности), трудовое право, коммерческое право, корпоративное право и закон о конкуренции.
Публичное право включает конституционное право, административное право и уголовное право. Конституционное право рассматривает отношения между государством и человеком, а также между различными ветвями государства. Административное право регулирует бюрократические процедуры управления и определяет полномочия административных органов. Уголовное право предполагает, что государство налагает санкции за определенные преступления.
пример
Курение в помещении – классический пример регулирования государственного и частного права. В некоторых странах курение в закрытых помещениях запрещено законом. Тем не менее, люди создавали членские клубы, в которых соглашение между членом и владельцем собственности является частным законом, не регулируемым государством. В соответствии с этим частным законом участникам разрешается курить в помещении.
Трудовые отношения как предмет международного частного права
Журнал международного права и международных отношений. 2019. № 1-2 (88-89). С. 13—20.
Journal of International Law and International Relations. 2019. N 1-2 (88-89). P. 13—20.
международное право — международное частное право
Людмила Ведерникова
Автор:
Ведерникова Людмила Андреевна — аспирант кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Белорусский государственный университет. Адрес: 4, пр. Независимости, Минск, 220030, БЕЛАРУСЬ
В статье исследуются характеристики трудовых отношений, выступающих предметом международного частного права, а также выявляются критерии отнесения трансграничных трудовых отношений к предмету международного частного права. Автором анализируется возможность применения норм об обязательствах раздела VII Гражданского кодекса Республики Беларусь к трудовым отношениям, а также обосновывается необходимость разработки специального коллизионного регулирования трансграничных трудовых отношений.
Ключевые слова: коллизионные нормы; международное частное право; применимое право; трансграничные трудовые отношения; трудовой договор; трудовые отношения, осложненные иностранным элементом.
«Cross-border Labour Relations as a Subject of Private International Law» (Ludmila Vedernikova)
Author:
Vedernikova Ludmila — post-graduate student of the Department of Private International and European Law of the Faculty of International Relations, Belarusian State University, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Belarusian State University. Address: 4, Nezavisimosti ave., Minsk, 220030, BELARUS
The article covers labor relations in private international law. The criteria for categorising cross-border labour relations to a subject of private international law are found. The author analyses if there is a possibility to apply the law of obligations specified in section VII of the Civil Code of the Republic of Belarus to labour relations. The necessity of the development of a special conflict of laws regulation of cross-border labour relations is established.
Keywords: applicable law; conflict of laws rules; cross-border labour relations; employment contract; labour relations with foreign element; private international law.
За последние 50 лет международное частное право (далее — МЧП) было кодифицировано в большей степени, чем за всю историю своего существования [40, p. 2]. Это связано, в первую очередь, с тем, что транснационализация общественных отношений и миграционная активность населения приводят к значительным изменениям подходов к коллизионному регулированию. Количество и разнообразие трансграничных частноправовых отношений, в том числе трудовых, брачно-семейных, отношений по защите прав потребителей, постоянно растет, что предопределяет необходимость появления новых коллизионных норм.
Общие правила коллизионного регулирования трудовых правоотношений не закреплены в Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее — ТК) [25] как источнике отраслевой кодификации. Нормы статьи 3 ТК нельзя считать коллизионными, а статьи 321 и 322 ТК, хотя и являются коллизионными, но регулируют очень узкий круг правоотношений (вопросы дипломатической и консульской службы). В этой связи возникает вопрос о возможности применения раздела VII «Международное частное право» Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) [5] к трансграничным трудовым правоотношениям. Ответ на данный вопрос имеет важное практическое значение, поскольку вопросы, связанные с трансграничными трудовыми отношениями, приобретают все большую актуальность на протяжении последних лет не только в Западной Европе, но и на постсоветском пространстве. (Как отмечают британские ученые С. Дикин и Дж. С. Моррис, «с ростом транснациональной мобильности труда и капитала вопрос о коллизии между различными правовыми режимами в области трудового права является очень живым» [32, p. 118]. См. также Л. Меррет: «Повышение мобильности рабочей силы вместе с распространением многонациональных компаний и групп корпораций привело к постоянному росту значения международных аспектов трудового права» [36, p. 1].)
Согласно общепринятой точке зрения, предметом МЧП являются частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом [1, с. 96]. При этом, согласно доминирующей позиции ученых, данные отношения в широком смысле включают гражданские, семейные и трудовые отношения, осложненные иностранным элементом [2; 7]. В основу так называемого трехчленного строения предмета МЧП положен тезис о сходной природе названных отношений, которые по своей сути являются частными отношениями.
Вопрос о включении трудовых правоотношений в предмет МЧП является дискуссионным [4; 7; 17; 21], поскольку часть из них имеет гражданско-правовой характер, а другая часть — управленческий. Как указывает Г. Ю. Федосеева, «вопрос о том, какие именно отношения, регулируемые трудовым законодательством, относить к гражданско-правовым, а какие — к административно-правовым, является достаточно сложным и неизученным в науке МЧП» [28, c. 235].
Белорусская доктрина не дает развернутого ответа на поставленные вопросы, хотя в последние годы вопрос о применении норм МЧП к трансграничным трудовым отношением все чаще упоминается исследователями. Так, В. Г. Тихиня, рассматривая пути развития МЧП Республики Беларусь, указывал на необходимость развития коллизионных норм, регулирующих трудовые отношения [22], как и Ю. С. Борель при проведении общего анализа регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным элементом в праве Республики Беларусь [3]. Однако в данных работах не проводится анализ юридической природы трансграничных трудовых отношений и не предлагались критерии отнесения данных отношений к предмету МЧП. Российскими учеными неоднократно предпринимались попытки обоснования случаев применения норм МЧП к трудовым отношениям, поэтому в статье использованы труды таких ученых, как И. В. Гетьман-Павлова [4], Г. К. Дмитриева [6], В. П. Звеков [7], Е. В. Кабатова [8], Л. В. Карасёва [9], А. А. Спектор [21], Г. Ю. Федосеева [28] и др. Тем не менее, на наш взгляд, именно анализу природы трудовых отношений, которые подпадают под регулирование норм МЧП, уделено недостаточно внимания. В статье рассматриваются западная доктрина и европейское законодательство, где обозначенные вопросы не только развиты доктринально, но и урегулированы нормативно. В статье также отражаются выводы таких европейских исследователей, как С. Дикин, Дж. С. Моррис [32], О. Дайнерт [33], Ф. Гамильшег [34], О. Ландо [35], Л. Меррет [36], И. Саси [43].
Цель статьи заключается в выявлении критериев отнесения трудовых правоотношений к предмету МЧП и рассмотрении необходимости законодательного закрепления специального коллизионного регулирования трансграничных трудовых отношений.
С появлением иностранного элемента в частном правоотношении возникла новая концептуальная сущность: частноправовое отношение, осложненное иностранным элементом [17, с. 13]. Экстраполируя настоящую концепцию на сферу трансграничных трудовых отношений, можно заключить следующее: для того, чтобы соответствующие отношения подпадали под регулирование нормами МЧП, трудовые отношения должны иметь частноправовой характер, а также быть осложненными иностранным элементом.
Общепринято, что в основе трудового права, находящегося под суверенитетом государства, лежит принцип территориальности. По справедливому утверждению польского исследователя А. Святковского, в пределах территории государства действует только национальная система трудового права и социального страхования [41, p. 13]. Это означает, что если все элементы трудового отношения между сторонами территориально связаны только с одним государством, то оно подчиняется трудовому праву этого государства и, соответственно, вопрос о применении иностранного права не возникает (например, когда страна, в которой инкорпорирован наниматель, и страна, где он принимает на работу гражданина того же государства, совпадают).
Вопрос о возможном подчинении трудового правоотношения иностранному праву возникает при появлении в отношении так называемого иностранного элемента. Как справедливо отмечает A. Л. Маковский [16], понятие иност-
ранного элемента используется в МЧП для конкретной цели — квалификации в законе той категории гражданских правоотношений, к которой можно применять не только отечественное, но и иностранное право. Согласно статье 1093 ГК, иностранный элемент в правоотношении может выражаться в субъектном составе или же иным образом [5]. Во-первых, проявление иностранного элемента возможно в субъекте правоотношения, например, когда наниматель и работник имеют принадлежность к разным государствам. Во-вторых, иностранный элемент может проявляться в виде объекта трудовых правоотношений, например, если участники трудовых отношений имеют национальность одного государства, а работа осуществляется за рубежом. В-третьих, иностранный элемент может относиться к юридическому факту, определяющему возникновение, изменение или прекращение трудовых правоотношений. В том случае, когда юридический факт будет иметь место на территории иностранного государства, а при этом его участники будут субъектами другого государства, такие правоотношения могут регулироваться нормами МЧП.
Однако исключительно наличие иностранного элемента в трудовом правоотношении не дает основания применения норм МЧП. Другой важной предпосылкой отнесения правового отношения к предмету МЧП выступает его частноправовая природа.
Принято считать, что разделение права на частное и публичное уходит корнями в римское право, где выделялось право, защищающее интересы государства (quod ad statum rei romanae spectat), и право, призванное защищать интересы отдельных лиц (quod ad singulorum utilitatem). Вместе с тем в современном мире указанный подход к разделению права видится весьма затруднительным на практике. Например, ввиду сложности определения общих критериев отнесения правоотношения к частному или публичному правопорядку в настоящее время Суд Европейского союза определяет соответствующую категорию правоотношения в каждом отдельном случае. Нередко при этом суд приходит к довольно неожиданным выводам, когда вопросы, традиционно рассматриваемые государствами — членами Европейского союза как публично-правовые, квалифицируются в качестве частноправовых. Примером может быть дело «C Korkein hallinto-oikeus v. Finland» C-435/06 [30] о возможности применения регламента Совета Европейского союза 2201/2003 от 27 ноября 2003 г. «О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по семейным делам и делам об обязанностях родителей» [31], сфера действия которого ограничивается гражданскими спорами (ст. 1(1)(b)), к публично-правовым мерам по защите детей. Вопреки мнению шведского правительства, согласно которому «трудно представить решение, которое было бы более явным результатом осуществления публичных полномочий, чем решение, требующее лишения родительских прав», суд, однако, постановил следующее: статья 1(1) регламента 2201/2003 должна быть истолкована таким образом, что конкретное решение о передаче ребенка на попечение охватывается понятием «гражданские дела», даже если это решение было принято в контексте норм публичного права, но касается защиты интересов
ребенка.
Определение принадлежности трудового правоотношения, осложненного иностранным элементом, к публичному или частному правопорядку представляет еще большую сложность. По мнению классика советского МЧП Л. А. Лунца, «нельзя сказать, чтобы было ясно, какие вопросы относятся к публично-правовым, а какие — к гражданско-правовым элементам трудового права» [13, c. 477]. Во-первых, трудовое право обладает комплексным характером. Это проявляется в том, что, с одной стороны, для данных отношений характерно наличие публичных начал, призванных защищать интересы работника, а с другой — трудовые отношения обладают частноправовыми свойствами, связанными с диспозитивностью и волей сторон трудового договора. Во-вторых, в трудовых правоотношениях органично сочетаются имущественный и организационный аспекты, элементы свободы и подчинения, а также своеобразный подход к определению правового положения сторон [23, с. 21].
В настоящее время большинство российских ученых, занимающихся вопросами МЧП, включают трансграничные трудовые отношения в предмет МЧП, несмотря на то, что российское законодательство не содержит отдельного коллизионного регулирования данных отношений. Данная группа ученых основывает свою точку зрения на понимании предмета МЧП, который охватывает гражданско-правовые отношения в широком смысле слова, в том числе и трудовые отношения, имеющие частноправовой характер [6; 18; 19]. К таким правоотношениям относят, например, условия выплаты и определение размера заработной платы; регламентацию порядка и условий возмещения ущерба, причиненного работнику трудовым увечьем. Вместе с тем часть правоотношений, имеющих управленческий характер, включает, например, порядок образования и деятельности комиссии по трудовым спорам; порядок наложения дисциплинарных взысканий; регламентацию правил внутреннего трудового распорядка [28, с. 235]. Однако данная группа ученых не предлагает конкретные критерии, по которым можно установить гражданско-правовой характер указанных отношений.
По этому поводу немецкий ученый Ф. Гамильшег предлагает проводить разделение трудового права на частноправовую и публично-правовую составляющие следующим образом: частноправовые нормы регулируют отношения сторон трудового договора, а публично-правовые нормы направлены на защиту работника [34, p. 3]. В некоторой мере этот подход воплощен в европейском правовом регулировании трудовых правоотношений. Коллизионно-правовое регулирование договорных трудовых отношений закреплено в регламенте Европейского парламента и Совета Европейского союза 593/2008 о праве, подлежащем применению к договорным обязательствам (далее — Рег-
ламент) [39]. Согласно статье 8 Регламент применяется только к индивидуальным трудовым договорам. Однако подобное деление имеет определенную долю условности. Сама концепция трудового договора имеет двоякую направленность: установление управленческой функции работодателя, но в то же время социальная защита работника [33, p. 132]. Более того, нормы, направленные на защиту работника, оказывают воздействие на договорные обязательства и принимаются в расчет судами, поскольку они могут быть объектом трудовых договоров между сторонами. В этой связи некоторые ученые выступают против соответствующего деления на основании предмета правового регулирования [34, p. 3]. Как отмечал Л. А. Лунц: «Любая норма служит защите интересов работника и социума в целом» [12, c. 343].
Наличие сильного публичного элемента в трудовых отношениях (нормы, направленные на защиту работников) вынуждает некоторых ученых негативно относиться к включению трудовых отношений в предмет МЧП. Например, Г. С. Скачкова утверждает, что с принятием Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) в 2001 г. «попытки некоторых авторов обосновать применение МЧП в трудовых отношениях с участием иностранцев кажутся все менее убедительными» [20, с. 98]. Однако с данным тезисом сложно согласиться. Едва ли отсутствие правового регулирования свидетельствует о невозможности соответствующего регулирования в будущем. К тому же, начиная с 2014 г., действующая редакция ТК РФ признает возможность регулирования трансграничных трудовых отношений иностранным правом «в соответствии с федеральными законами или международными договорами Российской Федерации» (ст. 327.1 ТК РФ) [26]. Вместе с тем как в российском, так и в белорусском законодательстве не существует разработанного коллизионного регулирования трансграничных трудовых отношений. В частности, белорусский законодатель не сформулировал общее правило о праве, применимом к трудовому договору, осложненному иностранным элементом.
Отсутствие специальных норм коллизионного регулирования трудовых отношений как тенденция, которую можно проследить на постсоветском пространстве, скорее всего основано на историческом развитии трудового права в Советском Союзе. Как отмечают российские ученые, ТК РФ 2001 г. явился результатом «компромисса» между преемственностью советской доктрины и потребностями новых экономических реалий, однако не был свободен от ряда противоречий, которые стали результатом противостояния различных подходов к регулированию трудовых отношений [14, c. 134]. Как писал И. Я. Киселёв, «разработать кодекс, который получил бы общественное одобрение, оказалось нелегкой задачей, учитывая резкую поляризацию социальных и политических сил в современной России, воздействие традиций и инертность мышления значительной части населения.., противоречивость интересов различных слоев общества и различное видение ими путей дальнейшего развития страны» [10, с. 274].
Доминирующая позиция в западной доктрине не воспринимает трудовое право как самостоятельную отрасль права. Как отмечал И. Саси, трудовое право является частью гражданского права, где элементы гражданского и публичного права тесно переплетаются [43, p. 5—6]. Так, в немецком трудовом праве признано, что публично-правовые обязательства работодателя по защите работника, по меньшей мере, если они могли быть согласованы в контексте трудового договора, одновременно считаются обязанностями работодателя по трудовому контракту [33, p. 13]. Подобное правило предусмотрено в швейцарском законе об обязательствах: «если федеральные или кантональные положения, регулирующие трудовые отношения, налагают обязательство по публичному праву на работодателя или работника, у другой стороны есть право требовать в соответствии с гражданским правом выполнения указанного обязательства, если оно подлежит включению в индивидуальный трудовой договор» (ч. 2 ст. 342) [42]. По мнению немецкого ученого О. Дайнерта, здесь можно говорить о ядре публичного права трудовых отношений, лежащих в сфере частного права, или же о «трансмутации» публично-правовых обязательств работодателя в плоскости частных трудовых отношений [33, p. 13]. Однако эта «трансмутация» не превращает правило публичного права в правило частного права. По причине вышеуказанного взаимодействия в середине XX в. в западной доктрине предполагалось, что положения публичного права исключают применение МЧП к трудовым отношениям [37, p. 190]. Впрочем, как видно из современного европейского регулирования, данный тезис пережил себя в настоящее время.
Показательной для подхода европейского законодателя является статья 14 регламента (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007 г. о праве, применимом к внедоговорным обязательствам («Рим II») [38], который распространяет автономию воли сторон на внедоговорные обязательства и позволяет сторонам заключить соглашение о применимом праве после того, как произошел юридический факт, повлекший за собой наступление вреда (ст. 14 (1)). Из этого следует, что стороны могут установить применимое право к таким вопросам, как компенсация за противоправные действия нанимателя в случае коллективных споров, а также несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, посредством соглашения, заключенного после события, вызвавшего возникший ущерб.
Таким образом, в современном европейском подходе разделение между публичным и частным характером трансграничных трудовых отношений имеет значение не для включения частноправовых отношений в сферу МЧП, а скорее для применения различных подходов к регулированию публично-правовых и частноправовых отношений. В большинстве случаев это означает отсылку к внутреннему трудовому законодательству в отношениях публично-правового характера вследствие применения односторонних коллизионных норм или же особых механизмов ограничения коллизионного метода [33, p. 11].
Тем не менее, отразить западный подход в наших правовых реалиях на сегодняшний день не представляется возможным. В отличие от западного подхода исторически трудовое право сформировалось в нашем регионе как относительно автономная отрасль права. В соответствии с мнением признанного эксперта трудового права А. М. Лушникова: «Трудовое право является достаточно зрелым социальным образованием, одной из основных отраслей в системе права романо-германской правовой семьи» [15, c. 3]. В этой связи для развития коллизионного регулирования трудовых отношений представляется важным выделить их частноправовой элемент. Данная задача является весьма сложной, поскольку в трудовых отношениях организационный, личный и имущественные элементы неразрывно связаны. Вместе с тем регулирование этих элементов осуществляется различными способами. Соответственно, можно попытаться провести разграничение трудовых отношений на частноправовые и публично-правовые на основании метода правового регулирования, под которым стоит понимать «совокупность способов и приемов правового воздействия на субъектов общественных отношений» [29, p. 48], выделив при этом императивный и диспозитивный методы.
Как правило, для публичных правоотношений характерно большее вмешательство государства в их регулирование, в том числе посредством использования запретов и предписаний [11, c. 87]. Как замечает Р. З. Лившиц, преобладание императивного метода характерно для регулирования управленческих и охранительных отношений, которым присуще подчинение одного субъекта другому [24, c. 27]. В частности, государственные гарантии оплаты труда, защиты работника, будучи обусловленными социальным содержанием труда, регулируются преимущественно с помощью императивного метода. Подобным образом и организационный элемент трудовых отношений, предполагающий соблюдение определенного порядка в трудовых отношениях, чаще всего регулируется императивными нормами. Следовательно, вопросы об охране труда, дисциплинарной ответственности, а также порядок рассмотрения трудовых споров стоит относить к категории публично-правовых отношений. Данный подход поддерживает Ф. Гамильшег, отмечая, что публичные начала трудового права затрагивают нормы, которые направлены на защиту работника и которым свойственны государственное принуждение и штрафные санкции [34, p. 3].
Трудовые отношения частного характера регулируются преимущественно с помощью диспозитивного метода правового регулирования. Основными характеристиками в таких отношениях являются равное положение субъектов по отношению друг к другу, а также наличие саморегулирования. Например, на стадии заключения трудового договора личностный элемент трудовых отношений регулируется в основном диспозитивными нормами [7, c. 87]. Можно согласиться с подходом британских специалистов по трудовому праву С. Дикина и Дж. С. Моррис [32, p. 131], что именно во время процесса найма «законодательное вмешательство» незначительно и в основном проявляется в контроле формы трудового договора и предоставлении равных возможностей получения должности претендентами на работу. Напротив, свобода договора весьма ограничена, когда дело касается прекращения трудовых отношений, поскольку здесь имеют место механизмы защиты работников от необоснованного увольнения, регулируемые императивными нормами.
Имущественный элемент трудовых отношений также, как правило, регулируется диспозитивными нормами. В первую очередь имущественный элемент трудовых отношений проявляется в их возмездном характере: работа, которую работник выполняет, должна быть оплачена в соответствии с количеством, качеством, сложностью и условиями труда (ст. 57 ТК). Размер данной оплаты устанавливается нанимателем на основании коллективного договора, соглашения и трудового договора (ч. 1 ст. 63 ТК), что, на первый взгляд, характеризует данные отношения как частноправовые. Однако в этом элементе трудовых отношений, как и в других, присутствуют публичные начала. Например, размер оплаты труда не может быть ниже установленного императивными нормами минимума (ст. 59 ТК). Как справедливо замечает А. Святковский, «гибридный характер трудового права становится ясным, когда разделение между публичным и частным правом производится на основе критерия, в соответствии с которым публичное право регулирует неимущественные отношения, в то время как частное право регулирует имущественные отношения» [41, p. 21].
Нельзя не согласиться с утверждением В. Л. Усачёва, что наиболее значительное сужение императивного регулирования трудовых отношений можно наблюдать применительно к трудовому договору [27, c. 84], так как субъекты данных отношений равны, права и обязанности устанавливаются ими самостоятельно, нормы права, регулирующие отношения сторон, в основном имеют диспозитивный характер. Однако, как указывалось выше, нужно учитывать следующее: тот факт, что трудовые отношения регулируются посредством индивидуального трудового договора, не придает им автоматически частноправовой характер.
В этой связи в западной литературе высказывались самые разнообразные мнения о месте публично-правовых норм в контексте трудового договора: от игнорирования их наличия до рассмотрения указанных норм как норм материального права, применяемых как часть применимого к договору права, или же вовсе как отдельных коллизионных привязок [33, p. 13]. Тем не менее, в настоящее время в западной доктрине разделению трудовых отношений на частноправовые и публично-правовые не придается прежнее значение. Основное внимание сосредоточено на том, что для регулирования трансграничных трудовых отношений необходимо наличие специальных коллизионных норм, отражающих специфику смешанного частноправового и публично-правового начала трудовых отношений. Не вызывает сомнений и тот факт, что трансграничные трудовые отношения входят в предмет международного частного права.
Таким образом, на наш взгляд, трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, по общему правилу, входят в предмет МЧП. Основной особенностью трансграничных трудовых отношений является их смешанный характер, что предопределяет использование императивного и диспозитивного методов регулирования. Значительная роль императивного метода регулирования в трудовом праве, в свою очередь, затрудняет обособление группы трудовых отношений частноправовой природы. Более того, из анализа, проведенного выше, вытекает, что трудовые отношения невозможно разделить исключительно на основании как предмета, так и метода правового регулирования или же сугубо посредством анализа интересов сторон. Регулирование отношения императивными нормами не делает его автоматически публичным, как и регулирование диспозитивными — частным. Следовательно, провести однозначную дифференциацию трудовых отношений на частноправовые и публично-правовые не представляется возможным. Однако для целей коллизионного регулирования при определении частного или публичного характера трудовых отношений следует оценивать в совокупности ряд критериев. Субъекты данных отношений должны быть равны, их права и обязанности устанавливаются самостоятельно посредством трудового договора и регулируются диспозитивными нормами права, данные отношения должны регулировать и защищать интересы частных лиц.
На практике основная нагрузка по определению характера правоотношений, которые регулируются международным частным правом, ложится на правоприменителя. Законодательно можно облегчить функции суда, сформулировав специальные коллизионные нормы таким образом, чтобы их объем четко определял круг трудовых отношений, регулируемых соответствующими специальными коллизионными нормами.
В настоящее время недостаток коллизионных норм в ТК ставит вопрос о возможности применения положений МЧП, закрепленных в ГК, к трансграничным трудовым отношениям. Возможность использования общих положений междунарожного частного права, закрепленных в разделе VII ГК, обусловлена пунктом 1 статьи 1 ГК «…трудовые отношения… регулируются гражданским законодательством, если законодательством… о труде и занятости населения… не предусмотрено иное». Аналогичная позиция поддерживается многими российскими учеными, в том числе А. А. Спектором [21, c. 9] и И. В. Гетьман-Павловой [4]. Однако в случае трансграничных трудовых отношений применение норм об обязательствах раздела VII ГК может быть затруднительно ввиду сложной правовой природы данных отношений, как было рассмотрено ранее. Например, статьи 1124 и 1125 ГК рассчитаны на традиционные товарно-денежные отношения и абсолютно не учитывают особенности трудовых отношений. Так, автономия воли сторон, закрепленная в статье 1124 ГК, при применении к трудовым отношениям давала бы слишком неограниченную свободу нанимателю, не учитывая позицию работника как более уязвимой стороны договора. Отношения, возникающие в связи с организацией наемного труда, объективно требуют особого регулирования, при котором ограничивается свобода договора в целях защиты работника и обеспечивается его подчинение власти нанимателя [24, c. 66]. В отсутствие выбора сторон при применении ГК трудовые отношения сторон трансграничного трудового договора регулировались бы правом страны, «где имеет основное место деятельности сторона, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого договора. При невозможности определить основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания такого договора, применяется право страны, где данная сторона учреждена, имеет место постоянного жительства…» (п. 4 ст. 1125 ГК). При применении данной нормы к трудовым отношениям с определенной долей условности можно было бы утверждать, что решающее исполнение в трудовом контракте осуществляет работник. Однако все равно не понятно в данной ситуации, что понималось бы под «основным местом деятельности» физического лица — работника. Более того, нельзя сказать, что права и обязанности по трудовым договорам в основном зависят от места жительства работника. Исходя из общепринятых мировых подходов в отсутствие выбора сторон к трудовым отношениям в подавляющем числе юрисдикций применяется привязка lex laboris (место выполнения работы).
Таким образом, на наш взгляд, в связи с особой природой трудовых отношений и правового положения работника как слабой стороны договора применение норм об обязательствах раздела VII ГК к трудовым отношениям является неприемлемым и нецелесообразным. В связи с этим требуется разработка специальных коллизионных норм для регулирования трансграничных трудовых отношений, в частности вопросов применимого права к трудовому договору.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, по общему правилу, входят в предмет междунарожного частного права. Однако ввиду их особого смешанного характера провести однозначную дифференциацию трудовых отношений на частноправовые и публично-правовые не представляется возможным.
2. Для целей коллизионного регулирования при определении частного характера трудовых отношений следует оценивать в совокупности ряд критериев: данные отношения регулируются преимущественно диспозитивным методом; характеризуются независимостью и автономностью субъектов (работника и нанимателя), свободой договора и незначительным вмешательством государства; также данные отношения должны регулировать и защищать интересы частных лиц.
3. В отличие от гражданского права, трудовое право основано на единстве частноправовых и публично-правовых начал ввиду особой роли трудового права по защите прав работников. Следовательно, нормы МЧП, закрепленные в ГК и направленные на регулирование гражданско-правовых договоров, непригодны для регулирования трансграничных трудовых договоров.
4. Учитывая сложный характер трансграничных трудовых отношений, который подразумевает регулирование данных отношений как частноправовыми, так и публично-правовыми нормами, необходимо законодательно закрепить специальные коллизионные нормы, регулирующие трансграничные трудовые отношения, объем которых должен четко определять круг трудовых отношений, подпадающих под регулирование.
Список использованных источников
1. Бабкина, Е. В. К вопросу о правовой природе коллизионных норм / Е. В. Бабкина // Актуальные проблемы международного публичного и международного частного права: сб. науч. тр. Вып. 3. — Минск: БГУ, 2011. — С. 94—99.
2. Богуславский, М. М. Международное частное право / М. М. Богуславский [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». — М., 2018.
3. Борель, Ю. С. Коллизионное регулирование трудового договора / Ю. С. Борель // Международные отношения: история, теория, практика: материалы III науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений БГУ, Минск, 4 февр. 2013 г. — Минск: Изд. центр БГУ, 2013. — С. 76—79.
4. Гетьман-Павлова, И. В. Коллизионное регулирование в международном частном трудовом праве / И. В. Гетьман-Павлова // Вестн. Моск. гор. пед. ун-та. Сер. юрид. науки. — 2008. — № 1. — С. 107—114.
5. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 7 дек. 1998 г. № 218-З: принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: текст по сост. на 1 сент. 2018 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2018.
6. Ерпылева, Н. Ю. Международное частное право: учеб. / Н. Ю. Ерпылева. — М.: Юрайт, 2011. — 1308 с.
7. Звеков, В. П. Международное частное право: учеб. / В. П. Звеков; под ред. Н. И. Марышевой. — 3-е изд. — М.: Wolters Kluwer Russia, 2010. — 904 с.
8. Кабатова, Е. В. Предлагаемые новеллы в раздел VI части третьей ГК РФ / Е. В. Кабатова [Электронный ресурс] // МГИМО Университет МИД России. — Режим доступа: <http://mgimo.ru/library/publications/1004867/>. — Дата доступа: 05.08.2018.
9. Карасёва, Л. В. Значение норм международного частного права в регулировании трудовых отношений мигрантов из стран СНГ в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Л. В. Карасёва; Рос. гос. соц. ин-т. — M., 2007. — 30 с.
10. Киселёв, И. Я. Трудовое право России. Историко-правовое исследование / И. Я. Киселёв. — М.: НОРМА, 2001. — 384 с.
11. Курс трудового права. Общая часть: учеб. пособие / А. А. Войтик [и др.]; под общ. ред. О. С. Курылёвой, К. Л. Томашевского. — Минск: Тесей, 2010. — 602 с.
12. Лунц, Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть / Л. А. Лунц. — М.: Госюриздат, 1963. — 362 с.
13. Лунц, Л. А. Курс международного частного права. Особенная часть / Л. А. Лунц. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрид. лит., 1975. — 504 с.
14. Лушников, А. М. Курс трудового права: учеб. В 2 т. Т. 1 / А. М. Лушников, М. В. Лушникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Статут, 2009. — 879 с.
15. Лушников, А. М. Проблемы общей части российского трудового права: научное наследие, современное состояние и перспективы исследований: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05 / А. М. Лушников; Моск. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. — М., 2004. — 39 с.
16. Маковский, A. Л. Кодификация российского частного права / A. Л. Маковский; под ред. Д. А. Медведева [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». — М., 2018.
17. Международное частное право: учеб. / Г. К. Дмитриева [и др.]. — Изд. 4-е, перераб. и доп. — М.: Проспект, 2016. — 680 с.
18. Нешатаева, Т. Н. Международное частное право и международный гражданский процесс / Т. Н. Нешатаева. — М.: Городец, 2004. — 624 с.
19. Перетерский, И. С. Международное частное право: учеб. / И. С. Перетерский, С. Б. Крылов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Госюриздат, 1959. — 228 с.
20. Скачкова, Г. С. Труд иностранцев в России: правовое регулирование: науч.-практ. пособие / Г. С. Скачкова. — М.: Wolters Kluwer Russia, 2006.— 249 с.
21. Спектор, А. А. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, как объект международного частного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / А. А. Спектор; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. — М., 2004. — 146 с.
22. Тихиня, В. Г. Республике Беларусь необходим специальный закон о международном частном праве / В. Г. Тихиня [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2018.
23. Трудовое право России: учеб. для бакалавров / отв. ред. Ю. П. Орловский. — М.: Юрайт, 2014. — 854 с.
24. Трудовое право России: учеб. для вузов / В. В. Глазырин [и др.]; отв. ред. Р. З. Лившиц, Ю. П. Орловский. — М.: ИНФРА-М — НОРМА, 1999. — 473 c.
25. Трудовой кодекс Республики Беларусь: Кодекс Респ. Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З: принят Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.: текст по состоянию на 1 сент. 2018 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2019.
26. Трудовой кодекс Российской Федерации: Кодекс от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ: принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.: текст по сост. на 1 сент. 2018 г. [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». — М., 2018.
27. Усачёв В. Л. Соотношение частного и публичного права в регулировании трудовых отношений на контрактной основе / В. Л. Усачёв // Проблемы публичного права: межвуз. сб. — Уфа: Изд-во Башкир. ун-та, 2001. — С. 79—87.
28. Федосеева, Г. Ю. Международное частное право: учеб. / Г. Ю. Федосеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Профобразование, 2002. — 320 с.
29. Boshno, S. V. Means and methods of legal regulation / S. V. Boshno // Law and modern states — 2014. — N 3. — P. 47—54.
30. Case C-435/06 — C Korkein hallinto-oikeus v. Finland: [2007] ECR I-10141 [Electronic resource] // EUR-Lex: Access to European Union law. — Mode of access: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62006CJ0435>. — Date of access: 25.06.2018.
31. Council Regulation (EC) N 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 // Official Journal of the European Union. — 2003. — L 338. — P. 1—29.
32. Deakin, S. F. Labour law / S. Deakin, G. S. Morris. — 6th ed. — Oxford: Hart, 2012. — 1264 p.
33. Deinert, O. International Labour Law under the Rome Conventions / O. Deinert. — Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2017. — 544 p.
34. Gamillscheg, F. Labour Contracts / F. Gamillscheg // International encyclopedia of comparative law. — 1972. — Vol. 3. — P. 3—24.
35. Lando, O. The Proper Law of the Contract / O. Lando // Scandinavian Studies in Law. — 1964. — Vol. 8, N 1. — P. 105—211.
36. Merrett, L. Employment contracts in private international law / L. Merrett. — Oxford: Oxford University Press, 2011. — 329 p.
37. Rabel, E. The Conflict of Laws: a Comparative Study. Vol. 3: Special Obligations: Modification and Discharge of Obligations / E. Rabel. — Chicago: University of Michigan Press, 1950. — 611 p.
38. Regulation (EC) N 864/2007 European Parliament and Council on July 11, 2007 on the law applicable to non-contractual obligations («Rome II») // Official Journal of the European Union. — 2007. — L 199. — P. 40—49.
39. Regulation (EC) N 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I) // Ibid. — 2008. — L 177. — P. 6—16.
40. Symeonides, S. C. Codifying Choice of Law Around the World: an International Comparative Analysis / S. C. Symeonides. — Oxford: Oxford University Press, 2014. — 411 p.
41. Świątkowski, A. M. European Union Private International Labour Law / A. M. Świątkowski. — Białystok: Jagiellonian University Press, 2012. — 343 p.
42. Swiss Federal Act on the Amendment of the Civil Code (Part Five: The Code of Obligations): adopted on 30 March 1911 (Status as of 1 April 2017) by The Federal Assembly of the Swiss Confederation [Electronic resource] // The Federal Council. The portal of the Swiss government — Mode of access: <https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html>. — Date of access: 20.06.2018.
43. Szaszy, I. International Labor Law / I. Szaszy. — Leyden: A.W. Sijthoff e Budapest, 1968. — 465 p.
Статья поступила в редакцию в сентябре 2018 г.
Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Частное право и публичное право – разница и сравнение
Частное право применяется к отношениям между физическими лицами в правовой системе. например контракты и трудовое законодательство. Публичное право применяется к отношениям между физическим лицом и государством. например уголовное право.
Таблица сравнения
| Частное право | Государственное право | |
|---|---|---|
| Регулирует | Отношения между физическими лицами, такие как Закон о контрактах и Закон о деликтах. | Отношения между людьми и государством. |
| Подразделения | Гражданское право, трудовое право, хозяйственное право, корпоративное право, конкурентное право. | Конституционный, административный и уголовный. |
| Прочие термины | Общее право (в Канаде и большей части США) | Нет |
Определение
Частное право регулирует отношения между людьми, такие как договоры и обязательственное право.В странах, где оно известно как «общее право», оно также включает контракты, заключаемые между правительствами и отдельными лицами.
Публичное право – это закон, регулирующий отношения между отдельными лицами (например, гражданами и компаниями) и государством.
Подразделения
Частное право включает гражданское право (например, договорное право, деликтное право и право собственности), трудовое право, коммерческое право, корпоративное право и закон о конкуренции.
Публичное право включает конституционное право, административное право и уголовное право.Конституционное право рассматривает отношения между государством и человеком, а также между различными ветвями государства. Административное право регулирует бюрократические процедуры управления и определяет полномочия административных органов. Уголовное право предполагает наложение государством санкций за определенные преступления.
Пример
Курение в помещении – классический пример государственного и частного регулирования. В соответствии с государственным законом курение в помещении запрещено в некоторых странах.Тем не менее, люди создавали членские клубы, в которых соглашение между членом и владельцем собственности является частным законом, не регулируемым государством. В соответствии с этим частным законом участникам разрешается курить в помещении.
Список литературы
Поделитесь этим сравнением:
Если вы дочитали до этого места, подписывайтесь на нас:
“Частное право против публичного права”. Diffen.com. ООО «Диффен», н.d. Интернет. 22 июля 2021 г. <>
Государственное право и частное право: определения и различия – стенограмма видео и урока
Разъяснение публичного права
Для упрощения: публичное право касается вопросов, которые затрагивают широкую общественность или государство – общество в целом. Вот некоторые из законов, охватываемых широкой сферой:
- Административное право – законы, регулирующие государственные учреждения, такие как Министерство образования и Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве .
- Конституционные законы – это законы, защищающие права граждан в соответствии с Конституцией
- Уголовные законы – это законы, относящиеся к преступлениям
- Муниципальные законы – это постановления, постановления и подзаконные акты, регулирующие город или поселок
- Международные законы – это законы, регулирующие отношения между странами
Давайте использовать Brown v.Board of Education, 347 U.S. 483 (1954), чтобы лучше понять публичное право в его связи с административным учреждением.
В деле Браун против Совета по образованию Линда Браун, истец (возбужденный ее отцом Оливером), утверждала, что его дочь не находилась под защитой Конституции. Поскольку Браун подал в суд на Совет по образованию, это подпадает под конституционный закон, но административный орган был привлечен к ответственности за нарушение.
Линде пришлось пройти несколько кварталов до остановки школьного автобуса, хотя ближайшая школа только для белых существовала в нескольких кварталах от ее дома.Родители Брауна считали, что права Линды по 14-й поправке были нарушены, когда ей запретили посещать школу для белых ближе к дому из-за ее расы.
Дело было выиграно, поскольку Верховный суд США объявил сегрегацию нарушением конституционных прав Брауна. Это подпадает под действие публичного права, поскольку проблемы сегрегации и дискриминации затрагивают общество в целом, а не только конкретного ребенка.
Частное право другое. Частное право помогает гражданам решать вопросы между собой.
Разъяснение частного права
Частное право затрагивает права и обязанности отдельных лиц, семей, предприятий и небольших групп и существует для оказания помощи гражданам в спорах, затрагивающих частные вопросы. Его сфера применения более конкретна, чем публичное право, и охватывает:
- Договорное право – регулирует права и обязанности лиц, заключающих договоры
- Закон о правонарушениях – права, обязанности и средства правовой защиты, предоставленные лицу, пострадавшему от обиды со стороны другого лица
- Имущественное право – регулирует формы собственности, передачи и аренды имущества
- Закон о наследовании – регулирует передачу имущества между сторонами
- Семейное право – регулирует семейные и бытовые вопросы
По делу Carvajal v.Hillstone Restaurant Group, Inc. (№ 10-57757), Карвахал заказал и съел жареный артишок в местном ресторане Хьюстона. Он впервые ел этот овощ. Не зная, как правильно царапать плоть о зубы, он жевал и проглотил артишок целиком, включая все листья.
Через несколько часов он почувствовал сильную боль в желудочно-кишечном тракте и потребовал неотложной медицинской помощи. Он потребовал компенсации от Hillstone Restaurant Group, Inc. в размере 15 000 долларов за свою боль и страдания.
Карвахаль утверждал, что официант не проинструктировал его, как есть артишок. Поэтому в ресторане небрежно подали блюдо, потенциально опасное для начинающего закусочного.
Это пример деликтного закона или законов, которые касаются правонарушений между частными лицами, которые обычно заканчиваются денежным расчетом, но никогда не тюремным заключением.
Дело здесь заключалось в том, что Карвахаль подал в суд на ресторан за нарушение, которое, по его мнению, было совершено против него, когда он подавал ему блюдо, которое он не умел есть.Он хотел компенсации за перенесенные страдания.
Краткое содержание урока
Основное различие между публичным и частным правом заключается в сторонах, которых каждая затрагивает.
Публичное право влияет на общество в целом и включает административное право, конституционное право, уголовное право, муниципальное право и международное право. В знаменательном деле Браун против Совета по образованию он ясно демонстрирует, как работает публичное право. В деле Браун против Совета по образованию, права маленького ребенка были нарушены административным органом.Семья подала иск на агентство и выиграла.
Частное право , с другой стороны, затрагивает отдельных лиц, семьи, предприятия и небольшие группы. Его сфера применения не так широка, как публичное право, и включает договорное право, деликтное право, имущественное право, наследственное право и семейное право. В деле Карвахал против Hillstone Restaurant Group, Inc. мы узнали, что истец, Карвахал, пострадал в результате съедания целого артишока. Он утверждает, что сервер не проинформировал и не проинструктировал его, как правильно употреблять овощ.В результате Карвахал заболел и потребовал компенсации за свою боль и страдания в соответствии с деликтным законом.
Основное различие между публичным и частным правом сводится к тому, затрагивает ли вопрос все общество или только несколько человек.
Результат урока
После просмотра видеоурока вы сможете:
- Распознать различия между публичным и частным правом
- Перечислите различные типы законов и определите, подпадают ли они под действие публичного или частного права
- Приведите примеры публичных и частных дел
В чем разница между публичным и частным правом?
Юридическая терминология или, как ее часто называют, «юридический жаргон» может сбивать с толку.Существует множество различных видов права, от частного права до уголовного, административного и международного права. Различие между публичным правом и частным правом существовало всегда. Лучше всего начать понимать это различие с того, чтобы сначала определить и объяснить, что имеется в виду под частным и публичным правом.
Что такое частное право
Начнем с частного права. Частное право применяется к любым обстоятельствам, касающимся отношений между физическими лицами в правовой системе.Следовательно, этот тип закона регулирует отношения между отдельными лицами и правительствами. Это также называется общим правом. Он включает в себя право собственности и доверительного управления, семейное право, договорное право, торговое право и закон о деликтном праве
.Примеры частного права
Распространенные примеры частного права можно найти в организациях и занятости. Например, правила поведения, установленные работодателем. Это может быть в форме повседневных правил, таких как запрет на курение в штаб-квартире; не создавать враждебной рабочей среды и т. д.Наказания за нарушение этих правил могут варьироваться от устного выговора до увольнения из организации.
Курение в помещении – классический пример государственного и частного регулирования. В соответствии с государственным законом курение в помещениях запрещено в Великобритании. Однако группы граждан объединились, чтобы создать взаимное соглашение между владельцами собственности, которое правительство не регулирует. В соответствии с этим частным законом лицам, находящимся на территории этого объекта (часто в пабе), разрешается курить в помещении.
Частноправовые подразделения
Как упоминалось ранее, частное право также называется гражданским правом. Некоторые подразделения права подпадают под этот зонтик:
- Договорное право
- Правонарушения
- Право собственности
- Трудовое право
- Торговое право
- Закон о корпорациях
- Закон о конкуренции
Что такое публичное право
Перейдем к публичному праву. Публичное право – это набор правил, регулирующих отношения между частными лицами или частными организациями и государственными органами (например, правительственными ведомствами и местными органами власти).В общем, публичное право касается вопросов, которые затрагивают широкую общественность или общество в целом. Вот некоторые другие законы, подпадающие под действие этого публичного права:
- Административное право
- Конституционные законы
- Уголовное право
- Муниципальные законы
- Международное право
Что такое государственный орган?
Обстоятельства с участием государственных органов подпадают под действие этого закона. Обычно государственные органы и должностные лица получают право принимать решения и предпринимать действия от парламента в форме законодательства.Ниже приведены все примеры государственных органов:
- Министры, ведомства и агентства
- Местные органы власти (включая социальные службы, жилищные департаменты и местные органы образования)
- Органы здравоохранения (включая NHS)
- Полиция, тюрьмы, суды, статутные трибуналы, коронерские суды, а также регулирующие и надзорные органы, такие как Генеральный медицинский совет.
Примеры публичных функций
Государственные органы выполняют государственные функции.Однако предоставление жилья и коммунальных услуг в настоящее время осуществляется частными организациями. Частная организация может контролироваться публичным правом, если она делает то, что в противном случае обычно делал бы государственный орган, то есть если она выполняет публичную функцию.
Другие функции государственного органа включают:
- Органы местного самоуправления принимают решение о предоставлении жилья
- DWP решает, присуждать ли кому-либо социальное пособие
- Государственный министр принимает решение установить правила, определяющие, кто может получить доступ к правовой помощи
- Местные органы власти принимают решение о предоставлении разрешения на строительство.
В чем разница между публичным и частным правом?
Некоторые различия могли уже проявиться после их определения, но давайте выделим различия. Как правило, эти два заголовка предназначены исключительно для категоризации законов в рамках правовой системы. Публичное право – это регулирование самой правовой системы, а не регулирование отдельных лиц. Просто основное различие между публичным правом и частным правом заключается в том, влияют ли действие или действия на общество в целом или на вопрос между двумя или более людьми.
Также возможно провести различие между публичным правом и частным правом в зависимости от уровня стандартов, применяемых к индивидуальному поведению. Например, некоторые могут сказать, что если публикация материалов сексуального характера причиняет «общественный вред» или нарушает «общественный стандарт приличия», то это может регулироваться законом.
Конечно, это различие между публичным и частным правом может иногда быть размытым, когда некоторые действия могут нарушать оба вида права одновременно.Определенные действия, которые считаются «преступлениями против общества», могут считаться достаточно «публичными» по своему характеру, чтобы их можно было классифицировать как преступления. Многие преступления против собственности связаны с причинением личного вреда. Таким образом, такие «частные» правонарушения могут быть классифицированы как правонарушения, так и преступления.
Нужна ли вам юридическая помощь?
Юридические термины иногда могут показаться сложными для людей, когда они не могут найти четкого пути решения своей проблемы. Как мы установили, существует много различий между публичным и частным правом.Каждый из их зонтиков охватывает разные типы законов. Если вы принимали участие или нуждаетесь в поддержке в деле, связанном с государственным или частным правом, свяжитесь с одним из членов RKB Law. Наши юристы могут помочь вам бесплатно в рамках Legal Aid, если вы соответствуете критериям.
Частное или государственное: каковы права ваших сотрудников?
Сотрудники частного сектора работают в коммерческих и некоммерческих организациях; Сотрудники государственного сектора выполняют официальные функции, такие как правоохранительные органы, общественное образование и общественная безопасность.Как вы понимаете, люди в этих ролях будут иметь разные права сотрудников.
Во-первых, многим служащим государственного сектора предоставлены определенные права, которые недоступны работникам государственного сектора. И наоборот, некоторые права, такие как выступление и профсоюзная деятельность, ограничены для государственных служащих.
Мы хотели объяснить больше этих различий, так как некоторые из них весьма существенны.
Безопасность работы: причина против «по желанию»
Одно из самых больших различий между государственным и частным сектором – основание для увольнения.Столкнувшись с возможностью увольнения, служащие государственного сектора обычно имеют конституционное право на справедливое судебное разбирательство и беспристрастное разбирательство дела до того, как они могут быть уволены. Это означает, что они имеют право знать , почему к ним применяются дисциплинарные взыскания, и объяснять свою позицию до , они могут быть наказаны или уволены.
Этот процесс называется слушанием Loudermill и основан на названии судебного дела Верховного суда США (Loudermill v.Кливлендский совет по образованию).
Многие работники частного сектора работают «по желанию». Это означает, что они могут быть уволены по любой причине (кроме расы, пола, ориентации или правдивых свидетельских показаний о правах на работу). С другой стороны, служащие государственного сектора, как правило, не могут быть уволены или подвергнуты дисциплинарному взысканию без уважительной причины.
Если государственный служащий подвергается дисциплинарным взысканиям без причины, он или она может указать причины, по которым не существует оснований для увольнения или дисциплинарного взыскания.
Свобода слова
Вы помните историю со скандальной запиской сотрудника Google? Сотрудник выпустил памятную записку, в которой выразил свое мнение о гендерном равенстве на рабочем месте. Вскоре после этого его уволили. Это законно в частном секторе: вас могут уволить на основании высказанных вами взглядов.
Между тем, слова служащих государственного сектора защищены до тех пор, пока это не препятствует работе агентства.
Участие в союзах
В соответствии с федеральным законом работникам частного сектора предоставляется право вступать в профсоюзы, которое включает в себя возможность вести переговоры о заработной плате и опротестовывать условия труда.Их не разрешают увольнять или наказывать за присоединение к одному из них.
Государственному сектору в большинстве штатов также разрешено присоединяться и вести переговоры о льготах, но они не защищены федеральным законом.
Самообвинение и допросы
В ходе расследования на рабочем месте работодатели могут приказать сотрудникам обсудить с ними вопросы. На частном рабочем месте, если работник разговаривает, работодатель может передать его показания в полицию и прокуратуру, где они могут быть использованы против них в суде, если им предъявлено обвинение в совершении преступления.
Это не относится к работникам государственного сектора, таким как полицейские, школьные учителя или даже работники местных парков и мест отдыха. Сотрудников государственного сектора защищает еще одно дело Верховного суда США под названием «Гаррити против Нью-Джерси». У них есть «Права Гаррити», которые защищают их от принуждения к разговору со своим работодателем (правительством) и последующего использования их заявлений против них в уголовном суде.
Государственные служащие здесь не имеют особых прав – они просто получают те же права, что и другие граждане.Если правительство заставляет кого-то говорить, угрожая ему или приказывая говорить, то его заявления не могут быть использованы в уголовном суде (однако любые сделанные заявления могут быть использованы государственным работодателем для дисциплинарного взыскания или увольнения человека).
Работники как государственного, так и частного сектора имеют право работать с представителем профсоюза в качестве защиты во время расследования на рабочем месте.
Знайте права своих сотрудников в штате Вашингтон
В любом случае, работаете ли вы в государственном или частном секторе, очень важно знать свои права на трудоустройство.
В Northwest Legal Advocates наша команда обладает многолетним опытом защиты сотрудников штата Вашингтон. Если вы столкнетесь с проблемой или потенциальными осложнениями при приеме на работу, свяжитесь с нами.
(PDF) Трудовое право и государственное трудовое право
Трудовое право и государственное трудовое право – в частности, (не) конвертируемость фиксированных срочных контрактов
контрактов в бессрочные контракты и «закон 35 часов »для государственных служащих в Португалии 451
Авторские права:
© 2018 Coxo
Образец цитирования: Coxo AR.Трудовое право и государственное трудовое право – в частности, (не) конвертируемость фиксированных трудовых договоров в бессрочные контракты
и «закон о 35 часах» для государственных служащих в Португалии. Криминалистическая экспертиза Criminol Int J. 2018; 6 (6): 449–452. DOI: 10.15406 / frcij.2018.06.00243
Если GLLPF несовместим с Директивой 1999/70 / EC,
, каков результат?
Для некоторых внутреннее право должно толковаться в соответствии с законодательством Европейского Союза
, и в этом контексте необходимо позвонить по номеру
для применения статьи 147 Закона о государственной службе в рамках общественных связей
.Следовательно, также в этом (публичном) домене фиксированные контракты
конвертируются в бессрочные контракты, когда срок действия или продления
этих контрактов превышен или доказано, что они были заключены в
в нарушение положения пункта 1 статьи 57 ФОНП.
Более того, для сторонников этого решения, преобразование
не противоречит нормам внутреннего конституционного права. Напротив: статья 53
CPR, закрепляющая право на гарантии занятости,
предусматривает то же решение, то есть преобразование договоров
в условия, изложенные выше.3 Португальские суды уже признали его
и, приняв соответствующие меры, определили преобразование
государственных трудовых договоров с фиксированным сроком в окончательные
договоров. См. В этой связи решения Апелляционного суда Порту
от 03.12.2007 (дело № 0712929), 22.02.2010 (Постановление №
375 / 08.3TTGDM.P1) и 24.09.2012 ( Протокол № 2006 / 09.5ТТПНФ.
П1). Для других, несмотря на неадекватное или недостаточное транспонирование
Директивы 1999/70 / EC, невозможно применить правила, изложенные в
в ЗК, в этом отношении, к государственной ссылке на занятость, в противном случае
такое решение оказывается неконституционным за нарушение принципа
равного доступа к государственной службе, предусмотренного статьей 47, абзацем
2 УПК.Это основополагающий принцип демократического права.
закона и право Европейского Союза не могут совпадать (см. Пункт 4 статьи
8 CPR). Эта позиция охватывалась законодательством
, предшествовавшим GLLPF4, и, согласно которому,
создание государственной гарантии занятости не всегда
зависело от проведения процедуры банкротства. С этой целью,
, допускающее конвертацию контрактов, означало бы доступ к публичному
гарантийному залогу без проверки публичного тендера и
, как следствие, соблюдение принципов равенства и беспристрастности.
См. В этой связи решение Апелляционного суда Порту от
16.03.2009 (дело № 0847551), решения Апелляционного суда Коимбры
от 20.01.2011 (Дело № 207 / 09.5) и 13.12.2012
(Proc. No. 763 / 11.8TTCBR.C1), решение Административного суда North Central
от 02.03.2012 (Proc. No. 02637 / 09.3) и
решение Южного центрального административного суда от 05.05.2016
(Proc.№ 13057/16) .5
Анализ
После этого краткого изложения позиций, сформулированных в доктрине и
юриспруденции относительно преобразования фиксированного общества
3 Франсиско Либерал Фернандес представляет идентичное решение, начиная с из
призма другая. Ср. Франсиско либерал Фернандес, «Relações de tensão entre o
ordenamento português e comunitário na disciplina do Contrato de trabalho a
termo» в Revista Eletrónica de Direito, Junho de 2013, n.º 1, с. 25.
4 Согласно законодательству, предшествовавшему GLLPF, Конституционный суд несколько раз выносил
постановлений о неконституционности различных нормативных толкований –
предписаний, имевших место в то время, – которые предполагали преобразование
Фиксированные трудовые договоры превращаются в бессрочные на том основании
, что такое требование не вытекает непосредственно из Конституции, вместе
с нарушением принципа равного доступа к государственной службе.Ср. Постановления
Конституционного суда №№ 683/99, 73/00, 82/00, 84/00, 190/00, 191/00,
368/00, 201/00, 434/00, 150/01 , 172 01 и 404/01.
5 ср., Для всех, Joana nunes Vicente, «Sobre a (proibição) de convertão do
contrato de trabalho a termo em públicas em Contrato de duração
indeterminada: algumas observação
indeterminada: algumas observação 2000 contr. в Boletim de Ciências Económicas, Vol.57, T. 3 (2014), pp. 3417-
3424 и цитируемая библиография.
трудовых договоров превращаются в бессрочные, мы приходим, чтобы раскрыть
наше видение проблемы.
В качестве предварительного пункта мы близки к тем, кто указывает на несоответствие
параграфа 2 статьи 63 Общего регламента по защите прав человека положениям
Директивы 1999/70 / EC. Фактически, гражданская, дисциплинарная
и финансовая ответственность государственных работодателей заменяют опеку
, недостаточную для решения сути проблемы: обеспечения
существования и стабильности трудовых отношений и
Правовое положение работника.Кроме того, это зависит от инициативы
работника по привлечению государственного работодателя к гражданской ответственности, что в конечном итоге приводит к возложению (большего) бремени на работника
в контексте сложной ситуации. . Исходя из этого, мы допускаем
возможность преобразования фиксированных государственных трудовых договоров
в бессрочные контракты при условии, что это было установлено
вне условий, изложенных в статье 57 GLLPF и когда они
были превышены продолжительность и количество продлений.С другой стороны, вопрос о праве на равный доступ к государственной службе
(см. Пункт 2 статьи 47 CPR) больше не возникает в тех же терминах
, что и GLLPF, в его статье 56 параграф 5 требует проведения
конкурсной процедуры с целью установления публичных
трудовых отношений для фиксированного контракта. Следовательно,
равенство условий доступа к государственной службе обеспечивается
, и такое конституционное положение больше не является препятствием
для преобразования фиксированного контракта на бессрочный.В деле
идентичное решение уже было предложено Франциско
Либерал Фернандес 3 в соответствии с законодательством, предшествовавшим GLLPF, в
в случае фиксированных срочных контрактов, заключению которых предшествовало
, конкурсное производство гарантировать соблюдение принципа равенства
.6 В настоящее время заключение любых государственных трудовых договоров с фиксированным сроком
осуществляется в соответствии с предшествующей конкурсной процедурой,
, которая, в первую очередь, устраняет любые возражения с точки зрения см.
принципа равного доступа к государственной занятости.Отсюда следует,
, следовательно, нет никаких аргументов, способных обосновать несоответствие
между Законом о частном труде и Законом о государственной занятости
в отношении преобразования фиксированных трудовых договоров,
, поскольку требования к трудоустройству меры безопасности и предосторожности
в случае мошенничества против закона одинаково важны в
обоих случаях.
Ограничения рабочего времени и, в частности,
«Закон о 35-часовом рабочем дне» для государственных служащих
Законодательные изменения
Что касается ограничений рабочего времени, режим, применимый к
работникам в частном и государственном секторах был, между 29 сентября
2013 и 30 июня 2016 – период, соответствующий Закону 68/2013
от 29 августа – идентичен.Таким образом, как статья 203, параграф 1 Закона
ЗК, так и статья 105 GLLPF (в версии до Закона
18/2016 от 20 июня) устанавливают правило 8 (восьми) часов в день
и 40 (сорок) часов в неделю.4 Упомянутое согласование схем
было направлено на вступление в силу Закона No. 68/2013 от 29 августа,
, который изменил лимиты, ранее установленные для государственных служащих,
, которые составляли 7 (семь) часов в день и 35 (тридцать пять) часов в неделю
.В то время обоснование, данное для этого, соответствовало
– единообразию с режимом, предписанным для частного сектора, и
– приближению к схемам, предусмотренным в другом члене
6 Cf. Франсиско либерал Фернандес, «Sobre a proinição da converão dos
contratos de trabalho a termo no emprego público: comentário à jurisprudência
do Tribunal Constitucional» в Questões Laborais, Ano IX, p.º 19, 2002.91.
Права работников частного сектора и государственного сектора | Малый бизнес
Кристофер Рейнс Обновлено 6 марта 2019 г.
Сотрудники частного сектора работают в основном на предприятия или некоммерческие организации. Работодатели в государственном секторе нанимают сотрудников для выполнения официальных функций и оказания государственных услуг, таких как правоохранительные органы, государственное образование и общественная безопасность. Поскольку работодатели в государственном секторе являются государственными учреждениями, конституция предоставляет государственным служащим определенные права, которыми не пользуются их коллеги из частного сектора.Однако некоторые права работников государственного сектора, особенно профсоюзная деятельность и слова, ограничены, чтобы государственные органы могли выполнять свои функции, и потому, что эти сотрудники часто занимают должности, пользующиеся доверием в обществе.
Различия в гарантиях занятости
Большинство работников частного сектора являются сотрудниками «по собственному желанию» и могут быть уволены по любой причине, кроме расы, пола, осуществления прав, предусмотренных законодательством, таких как компенсация работникам или правдивые показания в суде.Работодатели в государственном секторе, как правило, не могут дисциплинировать, понижать в должности или увольнять сотрудников, если нет «причины», такой как нарушение правил работы, нечестность, ненадлежащее поведение или плохая работа. Государственные служащие, которые не имеют права на то, чтобы представить на слушании доказательства и причины отсутствия оснований для увольнения или других дисциплинарных мер.
Независимо от того, действует ли сотрудник по собственному желанию, зависит от того, имеет ли работник контракт на гарантированную работу или на него распространяется действие закона (особенно для государственного служащего), который разрешает увольнение только по уважительной причине.Некоторые служащие государственного сектора могут считаться работниками «по желанию».
Права Первой поправки
Конституция Соединенных Штатов запрещает только правительствам, а не частным гражданам, предприятиям или организациям, вмешиваться в свободу слова человека. Поэтому работодатели в частном секторе обычно могут понижать в должности или увольнять сотрудников на основании выражаемых ими взглядов. Государственные служащие пользуются защитой за заявления, которые они делают как граждане по вопросам, представляющим общественный интерес, если только речь не наносит ущерба способности государственного учреждения функционировать.Согласно Верховному суду США в деле Гарсетти против Себальоса, Первая поправка не защищает заявления, которые государственный служащий делает в рамках своих служебных обязанностей.
Влияние профсоюзов
Федеральный закон дает работникам частного, но не государственного сектора право вступать в профсоюзы, заставляет их вести переговоры с работодателями о заработной плате и условиях труда и предпринимать групповые действия в отношении их занятости, включая право на забастовку. Как работодатель в частном секторе вы не можете увольнять, дисциплинировать или снижать заработную плату сотрудников за вступление в профсоюз или за осуществление их права на ведение коллективных переговоров.Многие штаты предоставили государственным служащим право вступать в профсоюзы и совместно вести переговоры о получении определенных льгот. Однако в некоторых из этих штатов, например в Нью-Джерси, профсоюзы не имеют права вести переговоры по вопросам занятости, которые не контролируются федеральным законодательством или законодательством штата или которые мешают государственному агентству выполнять свои обязанности.
Допросы и расследования
Государственные работодатели не имеют права заставлять сотрудников делать заявления, которые могут быть использованы против них в уголовном преследовании.Верховный суд США в деле Гэррити против Нью-Джерси заявил, что угроза увольнением сотрудников полиции, которые не разговаривали со следователями, нарушила защиту Пятой поправки от самооговора. Государственный работодатель может потребовать от сотрудника ответить на вопросы в ходе внутреннего расследования агентства, если ему сообщат, что для судебного преследования сотрудника не будут использоваться никакие ответы.
Рабочие в частном секторе не имеют этих прав «мелочью», поскольку Пятая поправка применяется только к правительству, а не к частным субъектам.Однако работник частного сектора имеет право на присутствие представителя профсоюза во время расследования, проводимого работодателем.
Трудовое право и вопросы занятости
Трудовое законодательство принимающей страны и существующие вопросы занятости актуальны для всех проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Это верно независимо от того, передается ли существующая услуга с существующими сотрудниками на аутсорсинг или создается новая услуга или проект инфраструктуры.
Трудовое законодательство и отношения с профсоюзами являются ключом к успеху инфраструктурных проектов – непризнание их важности часто тормозит, задерживает или препятствует успешной реализации проекта.
При разработке или обзоре проекта следует учитывать следующее:
Действующие сотрудники уполномоченного органа
Продолжат ли существующие сотрудники государственного предприятия работать на объекте, который передается на аутсорсинг компании ГЧП?
Можно ли перевести сотрудников в другую организацию / контрагента? Если нет, можно ли прикомандировать их к компании ГЧП? Если да, то можно ли установить четкую управленческую команду, которая будет работать для компании ГЧП?
Существует ли закон о проведении консультаций с профсоюзами, представляющими таких работников?
Распространяются ли ограничения на оплату и продвижение по службе на государственных служащих? Существуют ли ограничения на выплату бонусов / поощрений существующим сотрудникам? Можно ли снять такие ограничения для целей проекта?
Каковы условия оплаты и льгот существующих сотрудников?
Можно ли передать пенсионное обеспечение новому сотруднику?
Существуют ли ограничения на увольнение существующих сотрудников?
Что происходит с этими сотрудниками после сдачи проекта? Есть ли в законе положения, регулирующие эти вопросы (примеры правовых положений, касающихся этого, см. В Законе о труде).
Общее трудовое право и вопросы занятости
Требует ли трудовое законодательство от работодателей предоставлять работникам минимальную заработную плату, пособия по социальному обеспечению, медицинское страхование, отпуск и пособия на жилье и одежду?
Что произойдет в конце контракта или если контракт будет расторгнут – будут ли какие-либо сотрудники переведены обратно (если да, то есть ли различие между теми сотрудниками, которые формально работали с органом, выдающим контракт, и теми, которые были наняты в течение договоренность ГЧП)?
Может ли подрядчик уволить сотрудников / уволить их? Если нет, как он собирается достичь целевых показателей эффективности / снизить затраты? Если да, то какая компенсация требуется по закону / если таковая имеется? Что происходит с пенсиями и другими пособиями при увольнении с работы?
Могут ли работодатели увольнять нечестных или плохих работников? Возможно ли наложение дисциплинарных мер?
Можно ли ввести бонусы / поощрения, которыми пользуются некоторые, но не все работники?
Существуют ли законные минимальные квоты для количества сотрудников, нанятых на месте / местных жителей?
Имеют ли сотрудники законное право вступать в профсоюз? Каковы права профсоюзов на забастовку – есть ли возможность перекрестного пикетирования из других секторов? Какое влияние профсоюз имеет на политиков / общественность?
Следует ли правительству рассмотреть вопрос о введении законодательства для защиты прав трудящихся в случае переводов в частный сектор? Примеры см. В Законе о труде.
Визы для иностранных рабочих – частный сектор часто желает привозить управленческий персонал из-за границы. Им нужно будет определить, какая форма юридического лица для их представления будет наилучшей, чтобы выполнить требования в отношении персонала, получения виз и т. Д. Это очень важно, поскольку проекты могут быть отложены, если персонал отсутствует на начальном этапе.
Дополнительная литература и ресурсы
Contrat de partenariat et gestion des personnels, Institut de la Gestion Deleguee, май 2012 г.
Чтобы получить дополнительную информацию, нажмите «Инструментарий Всемирного банка / PPIAF по вопросам труда в реформе инфраструктуры».
Образцы законов
Англия и Уэльс – статья о правилах передачи предприятий (TUPE).
.